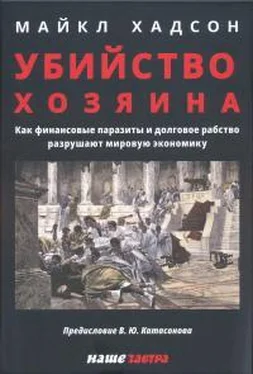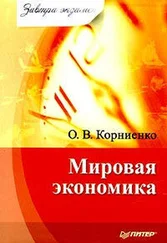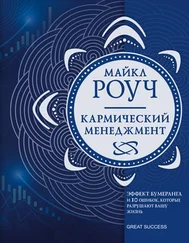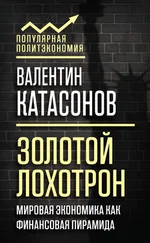Рынки сокращаются, а доля несостоятельных должников растёт. Новое кредитование прекращается, и должники должны начать погашать долги своим кредиторам. Это стадия долговой дефляции, которой завершаются экономические подъёмы.
К середине 1970-х годов целые страны достигли этой точки. Нью-Йорк чуть не обанкротился. Другие города не смогли поднять свой традиционный источник налоговых поступлений — налог на имущество, не прибегая к ипотечным дефолтам. Даже правительству США пришлось повысить процентные ставки, чтобы стабилизировать курс доллара и замедлить рост экономики в условиях военных расходов за рубежом и инфляционного давления, которое они подпитывали дома.
Ухудшение качества ссуд до исключительно процентного кредита и кредитования «Понци»
Хайман Мински описал первую стадию финансового цикла как период, в котором заёмщики способны выплачивать проценты и амортизацию. На второй стадии кредиты больше не являются самоамортизируемыми. Заёмщики в состоянии платить только проценты. На третьей стадии они не способны платить даже проценты. И вынуждены занимать, чтобы избежать дефолта. По сути, проценты просто добавляются к основному долгу, наращивая его начислением сложного процента.
Дефолт обязал бы банки списывать стоимость их кредитов. Во избежание «отрицательного собственного капитала» в своём кредитном портфеле, банкиры выдавали новые кредиты, чтобы правительства стран третьего мира могли ежегодно выплачивать проценты по своим внешним долгам. Бразилия, Мексика, Аргентина и другие латиноамериканские страны так и жили до 1982 года, когда Мексика взорвала «долговую бомбу», объявив, что не может платить своим кредиторам.
В преддверии финансового краха 2008 года рынок недвижимости США вступил в критическую стадию, когда банки выдавали домовладельцам проценты в виде «кредитов под собственный капитал» (залог жилья). Цены на жильё выросли настолько, что многие семьи оказались не в состоянии гасить свои долги. Чтобы кредиты работали «на бумаге», брокеры по недвижимости и их банки создавали ипотечные кредиты, которые автоматически добавляли проценты к долгу, как правило, до 120 процентов от покупной цены недвижимости. Таким образом, банковский кредит сыграл роль вовлечения новых подписчиков в схемы Понци и цепные письма («письма счастья»).
Чрезмерное кредитование удерживало экономику от дефолта до 2008 года. Многие владельцы кредитных карт оказались не в состоянии погасить свои остатки и могли выплачивать ежемесячно причитающиеся проценты, лишь подписываясь на новые кредитные карты, чтобы старые оставались в обращении.
Вот почему Мински назвал эту безнадёжную третью стадию финансового цикла стадией Понци. Её динамика — это цепное письмо («письмо счастья»). Ранним игрокам (или покупателям жилья) обещают высокие доходы. Они выплачиваются из поступлений от всё новых и новых игроков, присоединяющихся к схеме, например, новых покупателей жилья, которые берут постоянно растущие ипотечные кредиты для выкупа у существующих владельцев. Новички надеются, что отдача от их инвестиций (подобно цепному письму) может продолжать расти до бесконечности. Но схема неизбежно рушится, когда иссякает приток новых игроков или банки перестают подпитывать эту схему.
Средства массовой информации помогали Алану Гринспену в распространении иллюзии, что финансовый сектор набрал самодостаточную динамику для экспоненциального роста долга путём экспоненциального роста цен на активы. Экономика пыталась выйти из долгового кризиса за счёт инфляции цен на активы, спонсировавшейся Федеральной резервной системой. Казалось, что более высокие цены на дома, под которые были взяты долги, оправдывали этот процесс, если не задумываться о том, как можно расплатиться с долгами посредством реально получаемой заработной платы или прибыли.
Банки создавали новые кредиты на клавиатурах своих компьютеров, в то время как Федеральная резервная система упростила эту схему, поддержав экспоненциальный рост банковских кредитов (без необходимости для кого бы то ни было сберегать и вносить деньги в банки). Однако этот кредит не был инвестирован в увеличение производительных сил экономики. Вместо этого он спасал заёмщиков от дефолта, взвинчивая цены на недвижимость, но одновременно отягощая долгами имущество, компании и личные доходы.
Тот факт, что прирост цен на недвижимость облагается налогом по гораздо более низкой ставке, чем зарплата или прибыль, привлёк спекулянтов к использованию инфляционной волны, поскольку требования кредитования были понижены, что способствовало уменьшению первоначальных взносов, выдаче ссуд с нулевой процентной ставкой и с откровенно фиктивными декларациями о доходах «без документации», прямо называемым «займами лжецов» Уолл-стрит.
Читать дальше