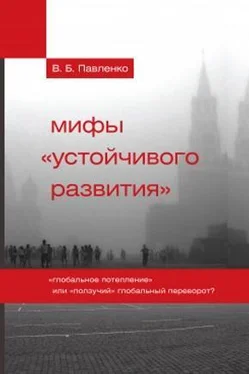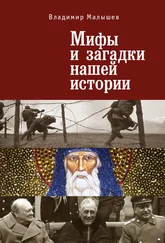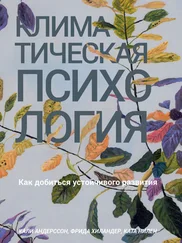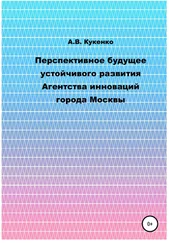Поэтому правильнее было бы спросить: а нужно ли кому-нибудь в такой системе развитие как таковое?
На одной из Бильдербергских конференций, состоявшейся в Баден-Бадене, Д. Рокфеллер — внук основателя династии Н. Олдриджа и одна из наиболее крупных и зловещих фигур мировой политики второй половины XX — начала XXI века высказал следующую мысль, явно приуроченную к набиравшему темпы распаду СССР: «Мы не смогли бы осуществлять наш мировой план, если бы все эти годы были на виду. Мир стал намного сложнее и сейчас готов принять концепцию мирового правительства. Наднациональный суверенитет интеллектуальной элиты и мировых банкиров, вне всяких сомнений, предпочтительнее господствовавшего последние столетия национального суверенитета » 111 (курс. — Авт .).
Прежде всего, подчеркнем констатацию наличия «мирового плана», о котором Печчеи в 1965 году говорил еще в будущем времени. Причем если основатель Римского клуба затрагивал преимущественно геополитические аспекты такого плана, то Рокфеллер не стесняется раскрывать и его идеологическую, и даже философскую канву.
Отметим также, что он прямо противопоставляет «неформальные» интересы «интеллектуальной элиты и мировых банкиров» принципу национального и государственного суверенитета.
В начале 2000-х годов, тот же Рокфеллер, выступая на одном из закрытых мероприятий в Секретариате ООН, сделал не менее важное, если не сказать знаковое заявление: «При сегодняшней ситуации создание нового мирового порядка еще долго будет невозможно. Мы накануне глобальных перемен. Все, что нам нужно, — это большой кризис, и тогда страны примут новый мировой порядок» 112 (курс. — Авт.).
Поскольку нет сомнений в том, что эти заявления связаны общей логикой, попытаемся эту логику установить.
Во-первых, настаивая на предпочтительности наднационального суверенитета перед суверенитетом национальным, то есть государственным, Рокфеллер открыто поставил крест на господствовавшей последние столетия Вестфальской системе, основанной на принципе суверенитета государств. При этом противопоставляемый ему наднациональный суверенитет связывался не с политической в привычном понимании этого слова, а с финансовой и интеллектуальной властью как конечным центром принятия стратегических решений, который находится не на виду, а в тени.
Иначе говоря, Рокфеллер выступил за перемещение власти от государств к «мировому правительству» — теневому, состоящему из «интеллектуальной элиты и мировых банкиров», которое мир, по его словам, уже готов принять. Именно об этом, но в завуалированной форме поддержки «неформального сектора» говорилось в упоминавшейся нами Копенгагенской декларации 1995 года [Прил. 2]. В этом, по-видимому, и состоит основное содержание «мирового плана», наличие которого констатировалось Рокфеллером намного позднее того, как об этом плане обмолвился Печчеи.
Во-вторых, эту власть «мирового правительства» Рокфеллер увязывает с формированием некоего «нового мирового порядка», который, в отличие от «мирового правительства», мир принять еще не готов. И чтобы все-таки убедить его в необходимости такого шага, потребуется «большой кризис». Иначе, считает Рокфеллер, даже при наличии фактической власти у «интеллектуальной элиты и мировых банкиров», «новый мировой порядок» еще долго не будет установлен и, следовательно, не произойдет легализации этой «мировой» власти, которая до тех пор будет вынуждена оставаться теневой.
Чего на этом фоне стоят все глубокомысленные аналитические размышления и выкладки разного рода экономистов, финансовых аналитиков и экспертов, с умным видом обсуждающих причины и перспективы кризиса, «внезапно» разразившегося осенью 2008 года, — отдельный, весьма интересный вопрос. Сами-то они хоть верят в то, что пишут и говорят? Тем более что Рокфеллер даже и не собирался скрывать, что подобный, искусно организованный и управляемый, кризис нужен лишь для того, чтобы подтолкнуть «глобальные перемены», накануне которых «находится мир».
Для начала признаем, что у «глобального плана» по Печчеи, «мирового плана» по Рокфеллеру, «глобального равновесия» по
Медоузу, «цивилизации Тормонса» по Ефремову и «качественному отличию» богатого человека от бедного по «одному РФ-олигарху», в конечном счете, очень много общего. Кроме того, констатируем, что весьма откровенные заявления одного из предводителей «интеллектуальной элиты и мировых банкиров» ставят перед нами сразу четыре вопроса. Что такое «новый мировой порядок»? Откуда взялась эта линия на «управляемые перемены»? Как именно она осуществляется? И каковы ее конечные цели?
Читать дальше