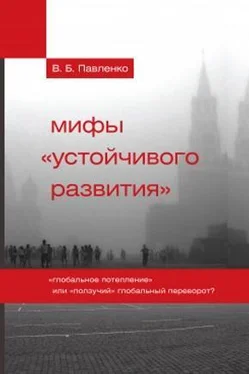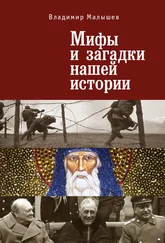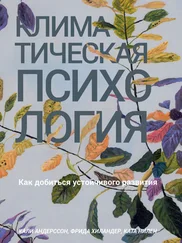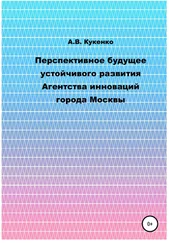Маленький штрих. Проектный язык — не игра слов, а очень важная теоретическая и практическая проблема. Причем самостоятельная. Наибольший вклад в формирование адекватных представлений о проектном языке на сегодняшний день внесен С. Е. Кургиняном, не устающим повторять, что сам факт принятия к обсуждению той или иной проблемы в дискурсе, построенном и навязанном на языке оппонирующей вам стороны, неизбежно ведет вас к быстрому проигрышу в любой дискуссии. Непонимание или недооценка патриотической общественностью именно этого обстоятельства долгое время позволяли разговаривающим на западном проектном языке российским «демократам» навязывать общественному большинству чуждую систему ценностей, а также идеологических и политических штампов и пристрастий. Переломить эту тенденцию на практике Кургиняну также удалось первому, вместе со своей командой справившись с либеральным тандемом Сванидзе и Млечина в беспрецедентном телемарафоне «Суд времени», собиравшем по всей стране многомиллионную аудиторию, которая затем активно обсуждала все перипетии острой борьбы в формальной и неформальной обстановке.
Возвращаясь к сферам проектной конкуренции, уточним, что «перестройка» — лишь публичный акт капитуляции. На проектном языке Запада втайне заговорили еще в конце 1960 — начале 1970-х годов в процессе включения части советской элиты в деятельность Римского клуба. Именно здесь корни предательства «перестроечной» мутации капитулянтов. Раскрытие того, как именно, с помощью каких средств это предательство осуществлялось, автор считает одной из своих главных задач.
Вторая точка зрения на сферы проектной конкуренции — более глубокая и основательная, чем у Хазина и Гавриленкова, представлена аналитиком Академии Генерального штаба Т. В. Грачевой. Раскрывая пространства и сферы проектной конкуренции, она формирует их иерархию. Высшим признается духовное пространство, включающее религиозную, культурную и этическую сферы. Следующим по важности называется ментальное пространство, с входящими в него политической (идеологической), информационной и социально-психологической сферами. Низший уровень отводится физическому пространству, в которое входят территориальная, экономическая и демографическая сферы 26.
«Сдача» капитулянтами коммунистической идеологии и здесь рассматривается важнейшей предпосылкой распада СССР, ибо это привело к реальной готовности нашей страны к сопротивлению только в физическом пространстве. Остальные были сданы без боя. Грачева упоминает и о том, что одним из последствий 1917 года явилось снижение «планки» российской проектности с высшего, духовного уровня, до среднего, идеологического. Но при этом оговаривается, что по мере отодвигания от кормила власти откровенных космополитов, близких к Троцкому, этот процесс был успешно обращен вспять. Из этого вытекает, что важнейшей исторической заслугой И. В. Сталина, которую в силу своей мелкотравчатости и мещанского образа мышления не хотят видеть его прошлые и нынешние оппоненты, следует считать разработку и осуществление стратегии, направленной на восстановление единства всех трех указанных пространств. Именно ему суждено было внести решающий вклад во всемирно-историческую победу советского народа в Великой Отечественной войне.
В том, что действия Сталина по реанимации духовной традиции не были спорадическим шагом лидера, «хватающегося за соломинку» в попытке избежать военного поражения, как пытаются доказать российские западники, а представляли собой глубоко продуманную стратегическую коррекцию всего курса Советской власти, убеждает следующее пророчество вождя, сделанное им осенью 1952 года:
«Необходимо <...> добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечивал всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованными всю жизнь, в силу существующего разделения труда, к какой-либо профессии.
Советская власть должна была не заменить одну форму эксплуатации другой формой, как это было в старых революциях, а ликвидировать всякую эксплуатацию.
Я думаю, что наши экономисты должны покончить с этим несоответствием между старым и новым положением вещей в нашей социалистической стране, заменив старые понятия новыми, соответствующими новому положению (это к вопросу о проектном языке. — Авт.). Мы могли терпеть это несоответствие до известного времени, но теперь пришло время, когда мы должны, наконец, ликвидировать это несоответствие.
Читать дальше