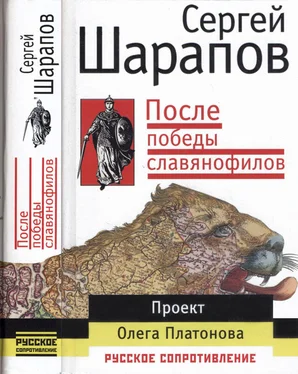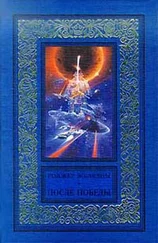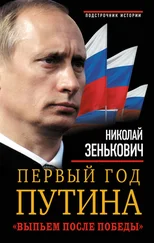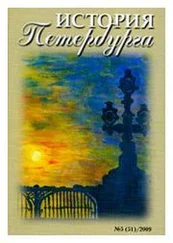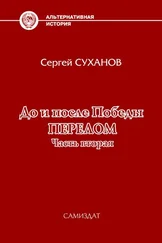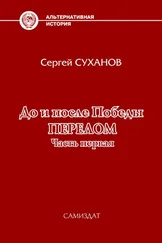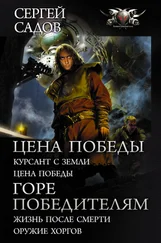Еще в конце 1894 года заседавшее особое совещание «по вопросам о способах и порядке укрепления прав казны и частных лиц на земли в Карской и бывшей Батумской областях» пришло к следующим заключениям:
1. Приобретение недвижимых имуществ по давностному владению в Карской и бывшей Батумской областях не могло иметь места по отношению как к туземному, так и к пришлому населению.
2. Все состоявшиеся решения судебных учреждений по этому предмету подлежат пересмотру в ревизионном порядке особой административной комиссии, об учреждении которой и о предоставлении ей широких для этой цели полномочий надлежит войти с ходатайством в установленном порядке.
3. Все внегородские земли в этих областях, кроме вакуфных и мюлькадарных, если таковые окажутся, должны быть признаны собственностью государства при условии сохранения за населением права пользования государственными землями на прежних основаниях.
Таким образом, согласно решению совещания, предлагается уничтожить более 200 судебных актов, на основании которых укреплены земли за разными лицами, уже сделавшими известные затраты на их обработку, и решения судебных учреждений, окончательные и вошедшие в законную силу, отменять путем административной ревизии.
Если подобное, признаемся откровенно, весьма странное решение вопроса осуществится, достоинство русского суда будет несомненно скомпрометировано. Да и для чего все это делать? Допустив даже, что в число этих 200 новых владельцев пробрались элементы нежелательные, не лучше ли, признав вместе с совещанием, ряд сделанных ранее ошибок и устранив на будущее время возможность этих ошибок, не переделывать уже сделанного?
А главное, следует обратить особенное внимание на то, чтобы принципиальные вопросы землевладения, разрешаемые крайне медленно, не тормозили развития культуры в присоединенных областях. Собственность так собственность, аренда так аренда, но важно, чтобы собственники или арендаторы знали, наконец, свое положение и могли спокойно работать, а не бегать по судам.
XXVII. В Салибауре у К. С. Попова
Наконец я сподобился увидать и московского коммерсанта Константина Семеновича Попова и получить от него разрешение осмотреть его чайные плантации. Разговор наш был весьма характерен. Я имел двойную причину возбуждать недоверие и даже злобу господина Попова: с одной стороны, как публицист, с другой — как чиновник Министерства земледелия.
Очевидно, господину Попову приходилось до сих пор иметь дело только с московскими публицистами новой формации, наводящими панику на почтенных людей на страницах «Московского Листка», «Новостей Дня», «Русского Листка» и тому подобных изданий. Должно быть солоно приходились ему эти господа, так же, как и местные агенты бывшего Министерства государственных имуществ здесь, в Батуме.
Вы только представьте себе: затратил человек огромные деньги, купил три имения, расчистил и приготовил плантации — их не позволяют засаживать, земля оказывается спорная! Показывает господин Попов данную окружного суда, вводный лист, документы, считающиеся бесспорными и законными. Увы! Местная администрация их не желает знать и объявляет с улыбкой, что земли все-таки казенные и что эти документы выданы по недоразумению и должны быть уничтожены.
Такие речи могут самого смирного человека довести до бешенства, и вот почему, между прочим, господин Попов смотрит волком на каждый зеленый околыш, видя под ним личного врага себе и своему делу.
— Это, господа, стыд и срам, — говорил мне К. С. Попов. — Человек затеял первый в России одно из важнейших предприятий, имеющих огромную будущность для края, а его вместо того чтобы помогать, травят.
Я старался уверить обиженного коммерсанта, что это недоразумение, что самая цель поездки нашей экспедиции — разрешение в справедливом и национальном смысле именно важнейших здешних вопросов; что министерство на здешние дела смотрит совсем иными глазами, чем здешняя администрация, что главнейший из ее представителей в этом углу Кавказа, особенно теснивший русский элемент, — уже принципиально «убран», господин Попов долго не мог победить своего справедливого недоверия к русским чиновникам и русской печати.
— Да и что у меня описывать? Любопытного, право, ничего нет. Чая мы делать еще не начинали, а только производим посадки и постройки, китайцев вы, я думаю, видали; ей-Богу, смотреть у меня нечего.
— Мне очень неловко настаивать, — продолжал я, — Но, ведя мой путевой журнал по возможности полно и подробно, я должен буду чем-нибудь объяснить, почему я не рассказал о самой важной из всех здешних культур — о вашем чае. Ведь я же не выхвачу никаких ваших секретов, а запишу только то, что мне скажут.
Читать дальше