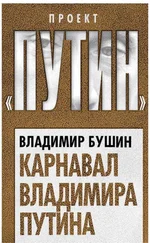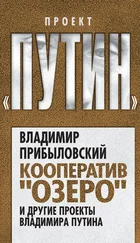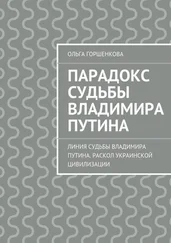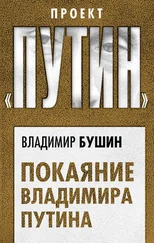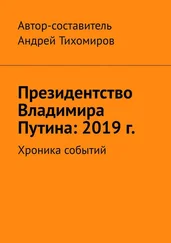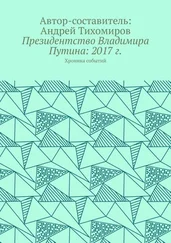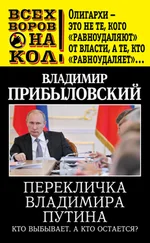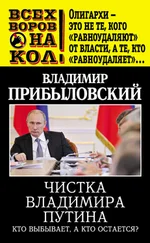А факты притеснения, конечно, были, ибо перестраховщиков и долдонов не сеют, не жнут, они сами родятся. Поэтому ЦК и СНК приняли постановление, чтобы утихомирить их. В нем говорилось: «Осудить практику огульного политического недоверия к бывшим советским военнослужащим, находившимся в плену или в окружении противника». Но Гранину было лень искать факты, копаться, его и без этого власть осыпала наградами да премиями.
* * *
С крайним изумлением прочитал я у него и это: «Только спустя двадцать лет после войны в 1965 году отметили солдат медалью в честь Победы». А к тому времени, дескать, немало фронтовиков уже и умерли.
Уж и не знаю, что это — опять старческий сбой памяти или злонамеренное вранье. И как не вспомнить Достоевского: «Старику девяносто лет, и он давно мог сойти с ума», тем более, что ему было уже за девяносто, но почему-то, как уже сказано, все сбои в одном направлении — против Советской власти.
На самом деле в 1965 году фронтовики получили не медаль «За победу над Германией», а орден «Отечественной войны». Это была памятная награда — в знак двадцатилетия Победы. А медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» была учреждена Указом Верховного совета СССР сразу после окончания войны — 9 мая 1945 года. Ее получили около 15 миллионов человек. Очень многие — еще до мобилизации, и вернулись домой уже с этой медалью. Я, например, получил ее 9 января 1946 года в райвоенкомате Сталинского района Москвы.
Если Гранину почему-то вручили медаль только через двадцать лет, то это факт его биографии, а не 15-ти миллионов фронтовиков.
Но однажды по воинскому вопросу Гранин сказал правду: «В 1946 году сняли выплату пенсий(?) за ордена. Деньги шли маленькие: в месяц за Красную Звезду — 15 рублей… Ликвиднули, ничего не объясняя».
Это — святая правда из грешных уст! Но, во-первых, 15 рублей это сейчас «маленькие деньги», на одну поездку в метро надо в три раза больше, а тогда это были вполне приличные деньжата, особенно, если ежемесячные.
Во-вторых, из орденов больше всего награждений было как раз Красной Звездой — 2.860 тысяч, почти три миллиона. Сколько же получается всем награжденным ею в год? 15*12(3.000.000 = около 500 миллионов рублей. А всего за время войны за боевые отличия было около 13 миллионов награждений. В тылу же одной лишь медалью «За доблестный труд» награждено свыше 16 миллионов человек.
А ведь было немало награждений и до войны. И платили не только за ордена, но и за медали. Медалью «За отвагу» были награждены около 5 миллионов человек, медалью «За боевые заслуги» — еще больше. Я получил обе эти медали, и мне платили за них 10 и 5 рублей.
Нетрудно сообразить, какие тут набирались в целом по стране гигантские суммы, каким бременем они ложились на государственный бюджет. А страна-то в каком состоянии после войны находилась? Кто, кроме нас самих, на что, кроме наших средств, можно было восстановить разрушенное хозяйство, поднять города, возродить деревни и села?
Вот почему выплаты были отменены, действительно, «ничего не объясняя». Никакие объяснения фронтовикам и труженикам тыла просто не требовались. Народ и без объяснений понимал, каковы дела. А он голосил: «Отдайте мои 15 рэ!».
* * *
Вместе с Виталием Дымарским, главным редактором разухабисто лживого журнала «Дилетант», Гранин благоговейно вспомнил книгу Виктора Астафьева «Убиты и прокляты»: ах, как досадно, что она «не всколыхнула общественность». Но этот ротный телефонист, попавший на фронт почему-то лишь в 1943-м году, был невеждой в военном отношении и всегда лгал о войне, но в советское время — с тремя плюсами, а в антисоветское — с пятью минусами. Я писал об этом еще при жизни Астафьева.
Да как вообще можно верить человеку, который откровенно рассказывал, что вот еще до войны работал он где-то в вагонном депо и получал 250 рублей в месяц, а потом попал в редакцию и стал получать 600 рублей. Цифры странные, он явно путал, но не в них дело. Он бесстыдно признавался: теперь, при 600 рублях «что от меня ни требовали, я все писал. Пропади все пропадом! Я любую информацию напишу — мне за нее пять рублей дадут» (Известия, 12 августа 1988).
А в другой раз этот вояка уверял, что на фронте «все часто думают: скорее бы меня убили» (там же). Можно ли с солдатами, думающими так, победить врага? Можно было с такой армией гнать немцев от Сталинграда до Берлина и взять его?..
Так Астафьев откровенничал с литеральным критиком Валентином Курбатовым. И тот ни разу не удивился, не переспросил, не сказал писателю: «Виктор Петрович, полно вам наговаривать-то и на себя и на всех фронтовиков!». Нет, критик молча выслушал этот вздор и бесстыдство, все записал и — на полосу столичных «Известий».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
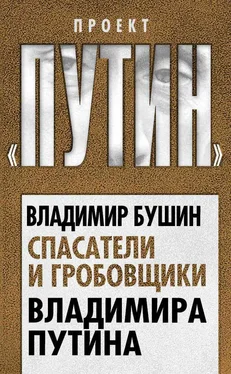
![Владимир Кузнечевский - Эпоха Владимира Путина [К вопросу об исторической миссии второго президента России]](/books/26247/vladimir-kuznechevskij-epoha-vladimira-putina-k-vo-thumb.webp)