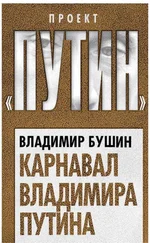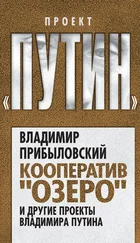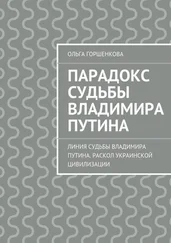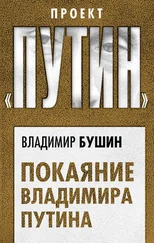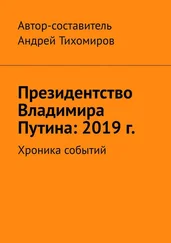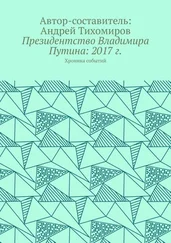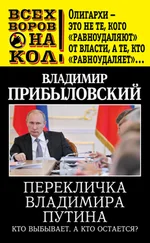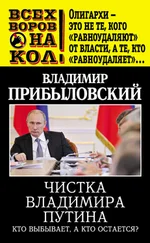И вообще, что касается Пушкина, то над ним в советское время, уверяет Волков, просто глумились: в 1937 году из столетия со дня его смерти устроили не что иное, как настоящую «вакханалию» (с.79). О, я помню эту вакханалию: по радио и с эстрады Владимир Яхонтов, Эммануил Каминка, Дмитрий Журавлев читали именно его «Вакхическую песню»:
Что смолкнул веселия глас?
Раздайтесь, вакхальны припевы!..
Сплошная вакханалия!
Андрей Платонов, уверяет литературный террорист, ухитрился в эти ужасные дни напечатать хорошую статью о Пушкине, но — под псевдонимом. Почему так? А потому, что еще в самом начале 30-х годов после резкой надписи Сталина на журнальной публикации его рассказа «Впрок» Платонова-де «выбросили из литературной жизни». Да как же узнали о надписи Сталина, сделанной в тиши кабинета на собственном экземпляре журнала? Разве он тотчас и опубликовал свои маргиналии, то бишь заметки на полях? Владимир Теодорович, Вы же должны понимать, что надпись стала известна только после смерти Сталина, а Платонов умер раньше.
Да, у писателя были немалые трудности в жизни и в творчестве, но все тридцатые годы он активно работал и напечатал немало прекрасных вещей. Вспомните хотя бы «Такыр» (1934), «Третий сын» (1935), «Фро» (1936), «Река Потудань» (1937), «На заре туманной юности» (1938), «Родина электричества» (1939)… А сколько было у него именно тогда критических статей! О Горьком, Николае Островском, Юрии Крымове, о Чапеке, Олдингтоне, Хемингуэе… А пьесы для Центрального детского театра!
Статья Платонова «Пушкин — наш товарищ», которую имеет в виду Волков, была напечатана в журнале «Литературный критик» № 1 за 1937 год, и вовсе не под псевдонимом. В том же «ЛК» вскоре появилась его статья «Пушкин и Горький». В журнале «Красная новь» № 10’37 против обеих статей выступил известный тогда критик Абрам Гурвич. 20 декабря в «Литературной газете» Платонов ответил ему вовсе не как человек, живущий в страхе: «Критический метод Гурвича крайне вульгарен и пошл…». Так вот, ответ А. Гурвича тоже в «ЛГ» так и был озаглавлен: «Ответ тов. Платонову». Где же псевдоним?
* * *
Сочинение Вашего любимого прохиндея изобилует нечистоплотными выдумками и о других писателях. Так, он хочет уверить нас, что в двадцатые годы стихи Пастернака были запрещены. Владимир Теодорович, сообщите этому куму хотя бы списочек основных изданий поэта именно в ту пору: «Сестра моя — жизнь» (1922), «Темы и вариации» (1923), «Избранное» (1926), «Девятьсот пятый год» (1927), «Поверх барьеров» (1929)…
Еще, говорит, тогда были запрещены и стихи Николая Заболоцкого. И у этого писателя судьба была не простая. Но у него в ту пору и запрещать-то было нечего, кроме разве что несколько рассказов для детей, напечатанных в журнале «Еж». Неужто злодеи их и запретили? А первая знаменитая книга поэта «Столбцы» вышла в самом конце тех лет — в 1929 году. Вокруг нее бурно кипели страсти, но никто ее не запрещал.
Нет конца измышлениям и фантазиям этого типа о нашей литературе. Дело доходит вот до чего. Иосиф Бродский, говорит, уверял меня, что Достоевскому, как его герою Раскольникову, «вполне могла придти мысль об убийстве ради денег». А мне кажется, что Бродскому вполне могла придти мысль об убийстве Волкова просто ради того, чтобы он замолчал.
Но Соломон этого не понимает и гонит облезлого зайца своего домысла дальше: «Схожие идеи об убийстве ради денег обуревали молодого Шостаковича». Вы только подумайте, великий композитор, а вот вам, пожалуйста… И как это доказывается? Очень убедительно. В одном из писем, говорит, у него прорвалось уж совсем «достоевское»: «Хорошо было бы, если бы все мои кредиторы вдруг умерли. Да надежды на это маловато. Живуч народ». Да, «заимодавцев жадный рой» ужасно живуч…
Владимир Теодорович, неужели Вы и теперь не понимаете, что за создание Божье Ваш друг, и какую книгу Вы осенили своим славным именем?
Исполнилось сто лет со дня рождения Бориса Слуцкого. «Литературная газета» почтила память талантливого поэта широко: на первой полосе его портрет и стихи, а дальше еще три восторженных статьи с фотографиями. Илья Кириллов в статье «Земля и небо» пишет: «Слуцкий не гениален, однако талантлив», и «гордая фигура Слуцкого возвышается над многими!». Конечно, возвышается… Постоянный мемуарист «Литгазеты» Сергей Мнацаканян в таком же возвышенном духе пишет о том, к сожалению, что ему неведомо, в том числе о самых важных и простых вещах жизни. Например, уверенно заявляет: «С фронта вернулись немногие. Слуцкий выжил». Как, дескать, один из немногих. Для старого, но не слепого же, не глухого же человека из Союза писателей это заявление поразительно!.. С фронта вернулись миллионы. Точнее, миллионов 10–12. Неужели он не видел их возвращение?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
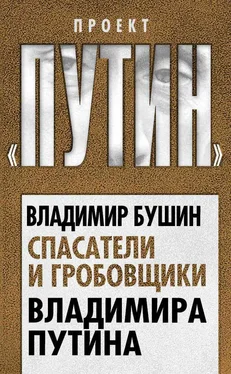
![Владимир Кузнечевский - Эпоха Владимира Путина [К вопросу об исторической миссии второго президента России]](/books/26247/vladimir-kuznechevskij-epoha-vladimira-putina-k-vo-thumb.webp)