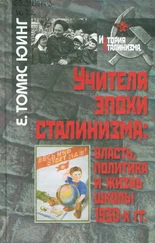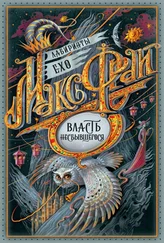В 1903 г. Вебер опубликовал первую часть обширной методологической статьи «Рошер и Книс и проблемы теоретической национальной экономии». Вильгельм Рошер, один из крупнейших представителей немецкой исторической школы, для объяснения конкретных исторических событий и феноменов старался искать универсальные связи, создавая, так сказать, «всеобщую теорию всего». Этот универсалистский подход, напоминавший гегелевский, Вебер считал неправильным и непродуктивным. У Карла Книса, другого патриарха исторической школы, один из курсов которого Вебер слушал студентом (а впоследствии, кстати говоря, занимал в Гейдельберге кафедру, которую незадолго до этого оставил Книс), он перенял – и специально подчеркивал это – точку зрения, что «науки, в которых человеческое „действование“ исключительно или по преимуществу образует субстрат исследования, внутренне взаимосвязаны» [8] Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen: Mohr (Siebeck), 1921. S. 46 f.
. Собственно, Вебер так или иначе занимается именно «науками о действии»; вот почему специфика и логика этих наук представляют для него такую важность. Книс, как считал Вебер, не разобрался, однако, в проблеме иррациональности человеческого поведения. В абстрактной теоретической национальной экономии игнорировались все неэкономические мотивы, человек считался всецело эгоистичным, всезнающим и стремящимся только рационально подобрать наилучшие средства для достижения цели [9] Weber M. Allgemeine («theoretische») Nationalökonomie: Vorlesungen 1894–1898. Op. cit. S. 123.
. Поскольку это однородные мотивы и способы выбора действий любого мыслимого действующего, постольку возможно их идеальное теоретическое представление. Но если признать, что человек обладает свободой воли, что у него могут быть самые разные мотивы и в общем никогда нельзя быть полностью уверенным в том, как он поступит, тогда, как считал Книс, законы, которым подчиняются события мира природы, невозможны в мире человеческих действий. Значит, экономисты ошибаются, конструируя поведение человека в виде, как мы бы сейчас сказали, «рационального выбора» и всех описывающих его законов. Такова была позиция не одного только Книса, тем более нужно было внести здесь ясность. Точка зрения Вебера, если очистить ее от многочисленных уточнений и оговорок, заключается в том, что в области природных событий для нас непонятного, иррационального куда больше, чем в поведении людей. Действительно, если мы знаем общий закон, но не знаем конкретных обстоятельств, естественное, законосообразное событие будет для нас понятным лишь в общем, но не в деталях, выяснить которые (например, при падении скалы и разлете ее осколков) просто невозможно. «Силлогизм» (см. выше) построить будет невозможно. Напротив, в делах человеческих мы то и дело сталкиваемся с ситуациями прямо противоположного толка. Конечно, и действия людей, подобно естественным событиям, могут быть для нас «объяснимыми» («begreif ich»), поскольку подпадают под общие законы. Но гораздо важнее другое: они «понятны», не просто совместимы с нашим знанием общих законов (номологическое знание, как его называли в то время), но и могут быть доступны сопереживанию, т. е. пониманию (Verstehen) конкретного мотива или комплекса мотивов. «Иными словами: индивидуальное действие, из-за того, что оно поддается осмысленному истолкованию – насколько его достает, – в принципе, специфическим образом менее „иррационально“, чем индивидуальный природный процесс» [10] Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. S. 67.
. Повторим, вслед за Вебером, еще и еще раз: допустим, отвалился и раскололся кусок скалы; объяснить, отчего именно так, а не иначе, лег один из осколков, скорее всего не получится, хотя ничего противного законам природы в этом нет, но и знание всех условий мало достижимо. Сравним это с человеческими действиями по приказу, по долгу службы, из корысти. Нам понятны действия, хотя «залезть в душу» человеку мы не можем, да это и не требуется. Понимание мотива – это ограниченное сопереживание, его достаточно для предсказания того, что мы можем наблюдать. А значит, мы можем, понимая, объяснить.
Понимание историко-культурных феноменов происходит в русле науки о культуре . В 1904 г. Вебер начал издавать вместе с друзьями журнал «Архив социальной науки и социальной политики», в котором опубликована большая часть его методологических работ и сочинений о хозяйственной этике. Национальную экономию Вебер теперь тоже считал наукой о культуре , определяя ее область исследования как «общее культурное значение социально-экономической структуры совместной жизни людей и исторических форм ее организации» [11] Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaf slehre. S. 164.
. Сюда же он относил и «социальную науку», первоначально избегая слова «социология». Для этого были множественные резоны, мы укажем лишь на один из них, попутно прояснив некоторые термины и более сложные вопросы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Макс Вебер Власть и политика [сборник] обложка книги](/books/397458/maks-veber-vlast-i-politika-sbornik-cover.webp)