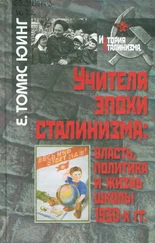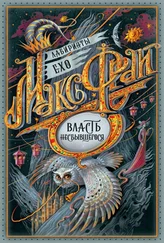По образованию Вебер был юристом, специалистом по истории торгового права; с преподавания этого предмета началась и его университетская деятельность, сначала внештатная (в качестве приват-доцента и экстраординарного профессора). Вскоре произошел крутой поворот, и в дальнейшем его позиции ординарного, т. е. штатного, профессора в университетах были по преимуществу связаны с национальной экономией [3] Первые годы он так или иначе вынужден был преподавать и юридические дисциплины, с 1897 г. Вебер смог переключиться только на национальную экономию. См.: Käsler D. Max Weber: Preuße, Denker, Muttersohn. München: C. H. Beck, 2014. S. 290.
. Последняя в его жизни кафедра в Мюнхене – это должность ординарного профессора национальной экономии, истории хозяйства и наук об обществе, а предпоследняя – в Вене, где он был профессором политической экономии. Различия между политической экономией, национальной экономией и социальной экономикой, речь о которой еще впереди, имели значение, но в общем они не настолько велики, чтобы обсуждать их здесь подробно. В наши дни социологи, экономисты, юристы и историки принадлежат к разным научным цехам, между ними лишь редко возникают взаимный интерес, пересечения и диалоги. Во времена Вебера дела обстояли иначе, экономическая наука и социология только формировались, причем экономисты продвинулись на этом пути намного дальше. На становление Вебера как ученого сильно повлияли дискуссии, которые шли между экономистами австрийской школы и представителями немецкой исторической школы национальной экономии. Австриец Карл Менгер считал, что экономическую науку надо строить как строгую общую теорию, а Густав Шмоллер, его непримиримый противник, доказывал, что изучать надо не общие законы экономической жизни, а то устройство хозяйства, которое складывается по-разному в исторической действительности. Это имело большое значение для молодого Вебера, в теоретических вопросах склонявшегося во многом к позициям Менгера и его коллег, но слишком хорошо понимавшего продуктивность и специфику исторического познания, чтобы принимать классический теоретический подход не критически. Сильно упрощая, можно сказать, что для экономистов теоретиков того времени люди всегда одинаковы (готовность учитывать историческую специфику в общем не имела последствий для теории), а для экономистов-историков никаких неизменных мотивов у людей не существует, историческая действительность нуждается в эмпирическом изучении, а не в надуманных схемах. В значительной мере именно из размышлений о резонах каждой из сторон в этом споре выросла та методология Макса Вебера, понимание которой имеет значение для правильного чтения его позднейших сочинений, в том числе и политических. Лишь постепенно Вебер пришел к тому, что наука, которой он занимается, – социология. Ее обоснование, разработка ее основных категорий, в том числе и понятия власти, оказались делом не только очень сложным, но и таким, которому предшествовала большая предварительная работа.
Идейную эволюцию Вебера можно очень условно (он много болел, и некоторые годы были вообще потеряны для науки и преподавания) разделить на три десятилетия [4] О том, насколько спорным может считаться такое членение, еще будет сказано ниже.
. С 1894 г., когда он стал профессором национальной экономии, и до конца 90-х гг. Вебер – прежде всего историк и экономист. Правда, у него есть исследования, которые мы бы отнесли сейчас к прикладной социологии. Материалы его лекционных курсов по теоретической национальной экономии лишь сравнительно недавно опубликованы в составе полного собрания сочинений, но пока что обращают на себя внимание только узких специалистов. Вот что пишут об этой стороне деятельности ученого его публикаторы: «Макс Вебер интенсивно занимался самыми главными, ключевыми текстами [австрийской школы. – А. Ф. ]. Принадлежавший ему экземпляр книги Менгера „Исследования о методе социальных наук“… испещрен пометками на полях, как одобрительными, так и критическими, сделанными его рукой… В лекциях Вебер также обращался к книге Карла Менгера „Принципы учения о народном хозяйстве“, хотя и не цитировал ее дословно… Значение Карла Менгера для научного развития Макса Вебера стало в полном объеме понятно лишь недавно, хотя до сих пор можно спорить о том, насколько велико значение Менгера для позднейшей социологии Вебера» [5] Einleitung, in: Weber M. Allgemeine («theoretische») Nationalökonomie: Vorlesungen 1894–1898 / Hrsgg. v. Mommsen W. J. in Zusammenarbeit mit Judenau C., Nau H. H., Scharfen K., Tiefel K. Tübingen: Mohr (Siebeck), 2009. S. 24 f. Далее здесь оспаривается известная точка зрения Й. Шумпетера, что Вебер вообще не был экономистом и плохо разбирался в новейших теориях.
. Речь идет о соотношении истории и теории. История, в соответствии с заветом великого Леопольда фон Ранке, должна исследовать, «как это было в действительности». Теория устанавливает закон, имеющий силу для целого класса возможных событий. Вебер, доказывают немецкие исследователи Михаэль Зукале и Герхард Вагнер, считал, что каузальное рассмотрение социальных событий строится как силлогизм: есть большая посылка – это закон, есть меньшая – конкретные условия, наступающие в определенный момент, и есть вывод – само единичное событие [6] Это понимание Вебер перенял у Вильгельма Виндельбанда; его ректорская речь 1894 г. была важнейшим источником методологических построений Вебера. См.: Wagner G. Op. cit. S. 224 f. Вагнер ссылается на более раннюю статью: Sukale M. Max Weber. Leidenschaft und Disziplin. Tübingen: Mohr (Siebeck), 2002. S. 224. См. также первоисточник: Windelband W. Präludien. 5. Aufl. Tübingen: Mohr (Siebeck), 1915. S. 158.
, которое обусловлено двумя родами причин: теми, которые описаны общим законом, и теми, которые заключены в конкретных условиях его совершения. Экономическая теория строится на предположении о сконструированном «хозяйственном субъекте», который представляет собой нечто вроде идеальной математической фигуры, что-то совершенно нереалистическое, но вполне пригодное для научной работы [7] См.: Einleitung, in: Weber M. Allgemeine («theoretische») Nationalökonomie: Vorlesungen 1894–1898. Op. cit. S. 26 и ссылка на текст самого Вебера: S. 120.
. Казалось бы, радикальной несовместимости между историей и теорией нет. Но Вебер понимал, что теоретический подход классического австрийского маржинализма и позиции исторической школы нельзя просто развести, так сказать, по разным углам, признав за каждой ограниченную правоту. Если перенести в теорию, даже самую абстрактную, характеристики современного западного человека, отождествив, таким образом, современную экономику с экономикой вообще, это повлечет за собой искаженное представление об экономике и социальной жизни прошлого. Нет и убедительной теории, в которой можно было бы найти место для самых разнообразных мотивов экономической деятельности человека в разные времена и в разных культурных условиях. До конца определиться с этим Вебер в 90-е гг., видимо, не успел, критика ключевых фигур исторической школы приходится на следующее десятилетие. Этот период начинается примерно в 1902–1903 гг.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Макс Вебер Власть и политика [сборник] обложка книги](/books/397458/maks-veber-vlast-i-politika-sbornik-cover.webp)