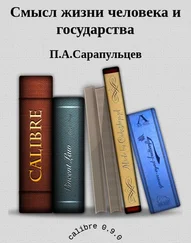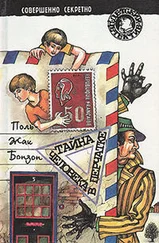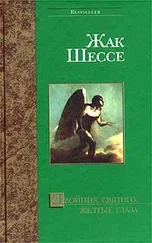Подводя итоги, я бы сказал, что если наша нынешняя социальная структура будет развиваться в нормальном русле, то первый этап, необходимый в интересах общественного благосостояния, должен состоять в государственном поощрении и поддержке (как показал выдающийся пример Управления долиной реки Теннесси, это возможно) масштабных предприятий, распланированных и осуществляемых не государством и не центральным политическим руководством страны, а посредством местных, частных, согласованных друг с другом инициатив, а также различных сообществ самих заинтересованных людей под руководством независимых назначенных чиновников. Таким образом, государство само могло бы положить начало движению постепенной децентрализации и "разгосударствления" общественной жизни, предвещая приход некоего нового персоналистического и плюралистического [18]строя.
Когда я разрабатывал эту теорию плюрализма, пытаясь выразить собственные мысли, я еще не читал работ Гарольда Ласки; лишь позже я понял, какую основополагающую роль играет понятие плюрализма в его политической философии. Такие феномены интеллектуальной конвергенции между совершенно различными, даже противоборствующими направлениями мысли (как было в другой связи, с понятием "персонализм") выявляют внутреннюю необходимость возникновения определенных основных идей в данный исторический момент.
Последний этап будет иметь место при новом строе, когда исчезнет необходимость в поощрении со стороны государства, а все естественные формы социальной и экономической деятельности, даже самые крупные и всеобъемлющие, будут исходить снизу, иными словами, от свободной инициативы и конкуренции отдельных групп, трудовых сообществ, кооперативных организаций, союзов, ассоциаций, объединенных на федеративных началах корпораций производителей и потребителей — разноуровневых и институционально признанных организаций. Тогда стала бы действовать определенно персоналистическая и плюралистическая модель общественной жизни, где развивались бы новые социальные формы частной собственности и инициативы. А государство предоставило бы различным общественным организациям самостоятельную инициативу и управление во всех присущих им видах деятельности. Единственной прерогативой государства в этом отношении была бы его подлинная прерогатива как верховного третейского судьи и надзирателя, регулирующего эту произвольную и автономную деятельность с высшей политической точки зрения общего блага.
Таким образом, в плюралистически организованном политическом обществе станет возможно, пожалуй, превратить государство в верховный орган, занимающийся только надзором в последней инстанции за достижениями учреждений, порожденных свободой, чье свободное взаимодействие выражает жизненность общества, полностью справедливого в его базовых структурах.
* * *
Итак, общее благо политического общества требует определенной организации управления и власти в политическом обществе, а значит, особого органа, наделенного верховной властью во имя справедливости и закона. Государство и есть этот верховный политический орган. Но государство не есть ни целое, ни субъект права, ни личность. Оно — часть политического общества и, как таковое, стоит ниже политического общества как целого, подчинено ему и служит его общему благу. Общее благо политического общества есть конечная цель государства, и она важнее его непосредственной цели — поддержания общественного порядка. Главная функция государства состоит в соблюдении справедливости, и эта функция должна выполняться только посредством верховного контроля политического общества, причем, в основном, через внутренние структуры этого общества. В конечном счете политическое общество должно контролировать государство, которое, однако, само выполняет функцию управления и контроля. На вершине пирамиды всех отдельных структур власти, которая в демократическом обществе должна выстраиваться снизу вверх, государство обладает верховной властью надзора. Но эта верховная власть получена им от политического общества, то есть от народа; государство само по себе не обладает естественным правом на верховную власть. Как следует из критического анализа понятия суверенитета (чему посвящена вторая часть этой книги), верховную власть государства ни в коем случае не следует называть суверенитетом.
С точки зрения здравой политической философии в политическом обществе не существует суверенитета, то есть нет естественного и неотчуждаемого права на трансцендентную пли отдельную верховную власть. Ни правитель, ни король, ни император в действительности не были суверенными, хотя имели меч и атрибуты суверенитета. Не является суверенным и государство, и даже народ не суверенен. Один лишь Бог суверенен.
Читать дальше