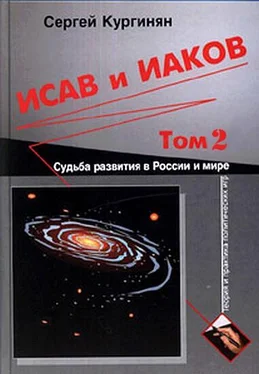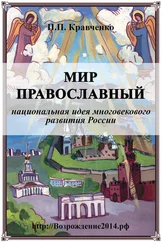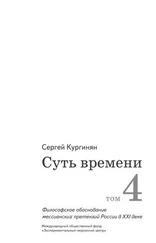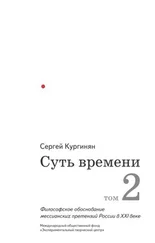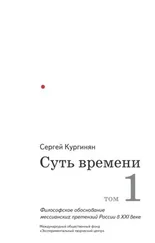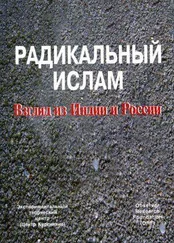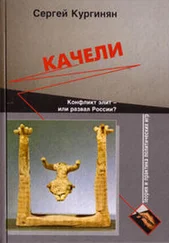Третья причина состоит в том, что XXI век взыскует какого-то нового метафизического качества, преодолевающего противоречие между наукой и религией. А значит, попытка метафизических реконструкций, выявляющих скрываемые светскими научными школами метафизические основания (религиозные или светско-неявно-метафизические), важна сегодня как никогда ранее.
Ну, так я и хочу перейти к подобным метафизическим реконструкциям, касающимся важнейших для XXI века научных и научно-идеологических светских (и именно светских) школ. Прежде всего, марксизма. Но и не только. С моей точки зрения, ответ на вопрос: «Будет ли спасено человечество в XXI веке или ему суждено погибнуть, разбившись у невзятого барьера развития?» — полностью определяется способностью человечества построить в XXI веке убедительную для него светскую метафизику, приемлемую и для религиозных людей. И не может человечество преуспеть в таком метафизическом строительстве, отбрасывая свой исторический опыт. Но нет в этом мировом опыте ничего сопоставимого по яркости и исторической значимости с марксизмом и коммунизмом. Важность же для России данного обстоятельства мы с тобою, читатель, обсуждали во всех предыдущих частях этой книги. И убеждать тебя в неслыханной важности для России как самой «красной» метафизической прецедентности, так и вытекающих из нее инновационных возможностей я больше не буду.
В конце концов, мотивы, по которым я хочу теперь обсудить явную и неявную светскую метафизику, содержащуюся в тех или иных мегатеориях и мегапроектах, — это одно. А само такое обсуждение — это другое. Может быть, для меня реконструкция неявной светской метафизики важна по одним (вышеназванным трем) причинам, а для читателя — по другим. Не буду я читателю свои причины навязывать. Я их оговорю и начну осуществлять эту самую реконструкционную деятельность. То есть выявлять, как именно функционирует метафизическое начало за религиозными рамками.
В VI части этой книги я попытался рассмотреть борьбу сторонников и противников развития с точки зрения метафизик, находящихся в религиозных рамках. То есть с точки зрения метафизических традиций (каковых несколько).
Под метафизической традицией я имею в виду формальную (то есть так или иначе институционализированную) или неформальную (то есть неинституционализированную вообще) метафизическую школу, сформировавшуюся в рамках той или иной религии и устойчиво воспроизводимую от учителей к ученикам на протяжении больших временных интервалов. То есть школу, исторически состоятельную.
Ну, так вот… В VI части книги я сосредоточился именно на борьбе метафизических традиций в рамках православия. Такое сосредоточение порождено было как политическим характером проводимого мною исследования, так и его объемом. Я с радостью описал бы в книге результаты своих исследований борьбы метафизик, считающих развитие благом и злом в рамках ислама, иудаизма, буддизма, других мировых религий.
Более того, я убежден, что такое расширение картины традиционных метафизических сражений, ведущихся вокруг проблемы развития, резко обогатило бы книгу. Но одновременно оно превратило бы ее из политического в культурологическое исследование, причем исследование многотомное. А я не хочу ни ухода от политической злобы дня, ни увеличения объема и без того уже вполне объемного сочинения. Поэтому я сосредоточился именно на том, как велась борьба «за» и «против» развития в рамках православных метафизических традиций. Ведь православие для России (со всеми политкорректными оговорками) все же обладает наибольшим значением. Оно маркирует специфику российского культурогенеза. Оно определяет специфику нашей культурно-исторической личности.
Это не значит, что я пренебрегаю вкладом других религий в создание нашей — мультикультурной и мультиконфессиональной — исторической личности. Это всего лишь значит, что я констатирую нечто слишком очевидное для того, чтобы назвать констатируемое «позицией». Особая роль русского языка в формировании нашей историко-культурной личности — это позиция автора или факт, объективный настолько же, насколько объективно «мнение», что дважды два равно четырем или что Волга впадает в Каспийское море? Все понимают, что в случае с русским языком — то факт, а не позиция. Но ведь то же самое и с православием.
Историческая объективность этого факта дополняется немаловажными политическими обстоятельствами, которые я никоим образом не имею права выводить за скобки, исследуя именно политическое в судьбах развития. Поскольку нынешняя власть в России к православию очевидным образом тяготеет, а я исследую судьбу развития как нечто политически обусловленное, то особое место, уделенное мною православной метафизической традиции (точнее — традициям), согласитесь, вполне оправдано.
Читать дальше