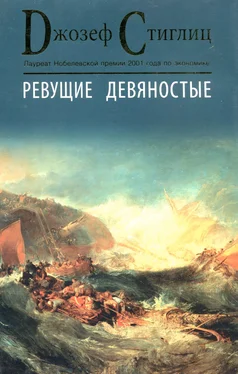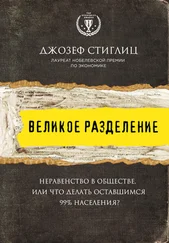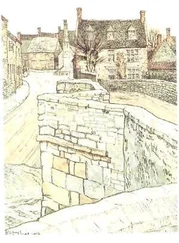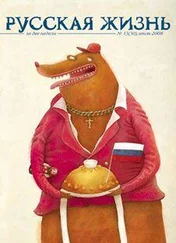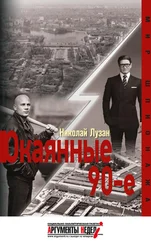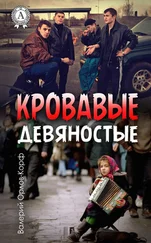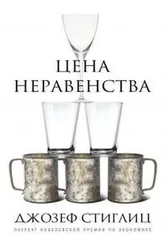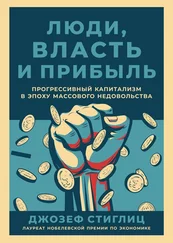По уровню преступности и доле лиц, отбывающих наказание, Америка заняла одно из самых высоких мест в мире. И это тоже наводит на мысль, что дела идут как-то не так. Некоторые штаты стали расходовать больше средств на тюрьмы, чем на университеты. Уровень неравенства у нас еще не достиг состояния Латинской Америки, но поляризация уже превысила таковую в новых развитых странах Восточной Азии, которые показали, что можно сочетать высокие темпы роста с высоким уровнем экономической справедливости. За два последних десятилетия положение с неравенством в Соединенных Штатах ухудшилось. Сколько бы ни были сторонники рейганомики уверены в действенности «экономики просачивающихся вниз выгод», — концепция которой состояла в том, что рост приносит благо всем (или, как иногда образно говорили, прилив поднимает все лодки) бедные слои не получили выгод от роста восьмидесятых годов. Более того с 1979 г. беднейшие слои Америки еще более обнищали.
Но в других отношениях нам повезло. Мы не упускали случая заявлять, а иногда даже и сами верили, что оживление является нашей заслугой, хотя многое из того, что произошло в девяностые годы можно отнести на счет сил, вступавших в игру задолго до появления на сцене администрации Клинтона. Например, начали окупаться инвестиции в высокие технологии, резко повышая производительность. В большинстве крупнейших городов Америки уровень преступности начал снижаться частью по демографическим причинам, а частью вследствие того, что пошла на убыль страшная эпидемия наркомании (крэк и кокаин) восьмидесятых годов.
Те из нас, кто помогал администрации Клинтона разрабатывать экономическую политику, оказались на нужном месте в нужное время: предыдущие двенадцать лет нанесли экономике большой ущерб, но ситуация все же не была непоправимой; существовали некоторые силы, действовавшие в нашу пользу. Фактически в определенном смысле дефицит был для нас выигрышной картой: он давал нам возможность и политические рычаги для решительных действий. Окончание холодной войны означало, что стоило только сбросить военные расходы до более разумного уровня — с 6,2 процента ВВП, высшей точки в эру Рейгана, скажем, до 3 процентов — и мы могли бы ликвидировать более половины дефицита. Не могу сказать, что кто-либо из нас согласился занять свою должность из чувства глубокой уверенности в необходимости сбалансированного бюджета. Начиная с самого президента, мы все пришли в Вашингтон с совершенно другими надеждами, отраженными в предвыборной программе: «Поставим на первое место интересы народа» (Putting People First).
Но мы играли картами, которые оказались у нас на руках. Президента убедили в том, что есть приоритетная задача — задача, которая впоследствии отодвинула на задний план все другие пункты программы на протяжении ближайших восьми лет. Он должен был обуздать дефицит.
Ясно было, что в долговременной перспективе невозможно продолжать жизнь с дефицитом. При ежегодном дефиците в 5 процентов ВВП, государственный долг возрастал даже как процентная доля ВВП (поскольку средний темп роста ВВП составлял 2,5 процента). При растущем долге федеральному правительству приходилось платить по все более высоким процентным ставкам, а при растущем долге и растущих процентных ставках все большая часть федерального бюджета уходила на обслуживание государственного долга. Эти процентные платежи, в конце концов, могли вытеснить все другие виды государственных расходов.
Таким образом, рано или поздно надо было либо увеличивать налоги, либо сокращать расходы. Имело смысл упредить события вместо того, чтобы ждать дезорганизующего воздействия растущего государственного долга.
Но проблема заключалась в том, что время было самое неподходящим для таких упреждающих действий, ибо экономика еще не оправилась от рецессии 1991 г., и, в соответствии со стандартной экономической теорией, которая излагается в любом курсе экономической науки более пятидесяти лет — считалось, что при попытке снижения дефицита увеличение налогов или сокращение расходов замедлит рост экономики. С замедлением роста и увеличением безработицы должны возрасти списки, получающих социальные пособия и пособия по безработице, причем темп роста налоговых поступлений замедлится. Расходы будут расти при снижении налоговых поступлений или, по крайней мере, поступления будут расти темпом, несовместимым с поддержанием здоровой экономики. Попытка сокращения дефицита окажется донкихотством.
Читать дальше