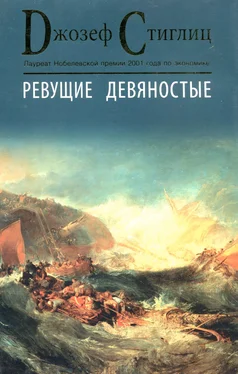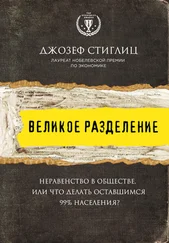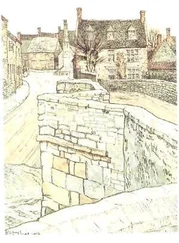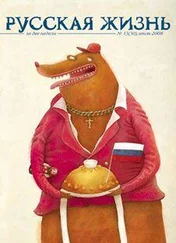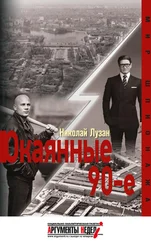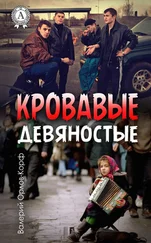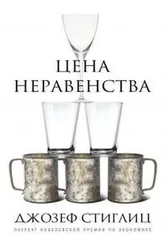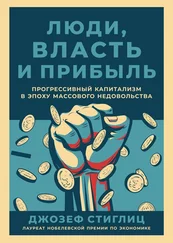Десятилетие беспрецедентного американского влияния на мировую экономику было также десятилетием, в течение которого, казалось, что экономический кризисы сменяют другой — каждый год возникал новый кризис. Мы выдержали все эти кризисы. Мы возможно даже выиграли от низких цен на закупаемые нами импортные товары, и наши инвестиционные банки также, по-видимому, неплохо заработали. Но эти кризисы вызвали неслыханные бедствия в странах, которым они подвергались. Громогласно провозглашенный с обещаниями беспрецедентного процветания переход бывших коммунистических стран к рыночной экономике обернулся на деле беспрецедентной бедностью. Этот переход обернулся такой катастрофой, что летом 1999 г. «Нью-Йорк Таймс» поставила вопрос: кто потерял Россию? {17} И даже, если Россия не принадлежала нам, так что мы ее не могли потерять, статистические данные отрезвляют: при замене больного и загнивающего коммунизма эффективным капитализмом выпуск должен был бы резко взлететь. Фактически же ВВП снизился на 40 процентов и бедность возросла в десять раз. И сходные результаты имели место в других экономиках, осуществлявших переход, следуя рекомендациям Министерства финансов США и Международного валютного фонда. Тем временем Китай, следовавший своим собственным курсом, показал, что существует альтернативный путь перехода, обеспечивающий успех и в области роста, который обещал переход к рыночной экономике, и одновременно в области значительного снижения уровня бедности.
Ясно, что-то ошибочное было в том, каким образом мы вели мир к новому порядку. И по крайней мере ясно, что мы не пытались решать фундаментальные проблемы нестабильности. Много говорилось о реформировании мировой финансовой архитектуры, но никаких реальных действий не следовало. Многих в развивающихся странах, а быть может и большинство, нам так и не удалось убедить в том, что тот новый мировой порядок, который мы пытаемся создать, будет работать им на пользу.
И снова мы должны спросить себя: в чем заключались наши ошибки, и почему мы их допустили? Мы потерпели неудачу в том, что мы делали и в том, что мы не делали, и потерпели неудачу в том, как мы делали то, что мы делали.
Международные соглашения, например, отражали наши заботы и наши интересы; мы навязывали их другим странам, требуя, чтобы они открыли свои рынки капитала, скажем прямо, для потоков наших деривативов [17]и спекулятивного капитала, зная при этом, насколько дестабилизирующим может быть их воздействие. Но Уолл-стрит хотел этого, он получил то, что хотел, и, по-видимому, даже больше того.
Развивающимся странам было сказано, чтобы они открыли свои рынки для всех форм импорта, каких только можно вообразить, включая то, в чем Америка имела неоспоримые преимущества, в частности финансовые услуга и программное обеспечение для компьютеров. Мы же при этом сохранили жесткие торговые барьеры и крупные субсидии для американских фермеров и агробизнеса, отказывая тем самым крестьянам третьего мира в доступе на наш рынок. В отношении стран, переживавших трудные времена и столкнувшихся с рецессией, наши стандартные рекомендации сводились к сокращению государственных расходов — и это несмотря на то, что сами мы полагались на рост расходов и бюджетный дефицит как рутинное средство преодоления наших экономических спадов.
Не только эти примеры поражали жителей других стран как явное лицемерие. Даже в период сбалансированного бюджета девяностых годов мы сохраняли огромный торговый дефицит; проповедуя для других необходимость снижения торговых дефицитов; очевидно, считалось, что если богатые страны могут позволить себе жить не по средствам, то для бедных стран это непростительно {18} .
Мы упрекали развивающиеся страны за их неуважение законов о правах интеллектуальной собственности, но в бытность нашу развивающей страной мы тоже игнорировали эти законы (Соединенные Штаты не признавали защиту прав иностранных авторов вплоть до 1891 г.)
Особенно странным выглядел контраст между полумерами администрации Клинтона за рубежом, и битвами, разгоревшимися у себя дома. У себя мы защищали государственное социальное страхование от приватизации, восхваляя ею низкие транзакционные издержки, гарантированный доход пенсионеров, который оно обеспечивало, говорили о том, что оно фактически ликвидировало бедность населения старших возрастов. За рубежом мы проталкивали приватизацию. Дома мы выступали за то, чтобы Совет управляющих ФРС неотступно держал в центре внимания экономический рост и безработицу, равно как и информацию — и президент был выбран с программой, где главным пунктом были рабочие места, иного он просто не посмел бы предложить. За рубежом мы требовали, чтобы центральные банки сосредоточились исключительно на инфляции.
Читать дальше