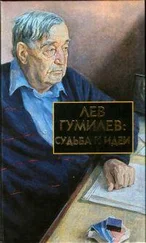Лет 15 тому назад основными вопросами государственного права у нас интересовались только те, которые думали о перевороте нашего государственного строя и, понятно, изучали право тенденциозно, с заранее предрешенными выводами. Не только публика вообще, но и образованнейшая часть ее была захвачена революцией врасплох, и неясность представлений о Верховной власти мы увидели даже среди лиц власти, которым предлежало обрабатывать новые основные законы. Что касается публики в широком смысле, то она проявляла неспособность разобраться даже в таких азбучных вопросах, как юридическая неограниченность Верховной власти и ее фактическая ограниченность. Впоследствии, когда на эту неподготовленную почву стали проникать идеи Еллинека о «самоограничении» Верховной власти, они породили лишь ряд новых недоумений… Туча их тяготеет над умами и до сих пор, препятствуя на каждом шагу доброму устроению учреждений.
Они проявляются и в вопросе о праве Монарха как власти Верховной изменять существующие основные законы. Логика, приводящая к этому странному вопросу, такова. Монарху, обладавшему всей полнотой Верховной власти, было угодно дать основные узаконения, ограничивающие Его собственные права. Это было дело самоограничения Верховной власти, но раз оно произошло, — никакое новое изменение основных законов будто бы не может уже иметь места иначе, как в порядке, указанном Основными законами 1906 года. Порядок же этот предоставляет почин подобных изменений исключительно Императору, но вместе с тем требует также одобрения Государственного Совета и Государственной Думы для возникшего по инициативе Императора изменения.
Положение получается как бы безвыходное. Даже и теоретически можно заранее предвидеть, что Основные законы, выработанные столь быстро, даже и при превосходном персонале кодификаторов не могут быть чуждыми просмотров, несогласованности и других недостатков, требующих исправления. В отношении же законов 1906 года среди всех, их рассматривавших, существует общее убеждение в их чрезвычайном несовершенстве. А между тем нет сомнения, что невозможно придумать таких исправительных комбинаций, которые объединили бы в себе одобрение Думы, одобрение Государственного Совета и утверждение Императора.
Положение было бы безвыходное, если бы все эти рассуждения не были основаны на малой осведомленности о
свойствах Верховной государственной власти, так как в действительности правовой выход из усложнений, созданных недостатками учредительных узаконений 1906 года, совершенно прост и ясен, как указывал Л.А. Тихомиров П.А. Столыпину. Заметим к сведению Вестника Европы, что мы не опираемся на акт 3 июня 1907 года, изменивший путем Высочайшего манифеста без всякого участия обычных законодательных учреждений очень важную часть Основных законов 1906 года. Мы обращаем внимание интересующихся нашим государственным устроением на нечто иное — на общий вопрос «самоограничения» Верховной власти и на ее природные учредительные и управительные права.
Дело в том, что Верховная власть всегда по самому своему существу — неограниченна. Она может находиться в руках разных учреждений, но в чьих бы руках ни находилась — остается неограниченной. Носитель Верховной власти юридически может все. Что же означает термин «самоограничение» Верховной власти? Он имеет выразить не факт ограничения, а тот факт, что ограничить Верховную власть может только она сама. Все прочие власти ограничиваются Верховной властью, а она не может быть ограничена никакой другой и может только она сама устанавливать какие-либо для себя ограничения в интересах стройности управления. Для того, чтобы действие ею устанавливаемых учреждений было стройно, оно должно совершаться законно, по законам, Верховной властью данным, для чего сама Верховная власть не должна спутывать их действия непредвиденными вмешательствами.
Таков смысл «самоограничения», в котором Верховная власть признает, что известные принципы нравственные, известные права личные, известные нормы общественной жизни не подлежат изменению как выражающие, так сказать, естественное право, на котором основана сама Верховная власть. Но при этом Верховная власть определяет также, какими путями имеет быть совершаемо ей непосредственное вступательство в дела управления. Вот сущность так называемого «самоограничения». Все это нимало не уничтожает факта неограниченности Верховной власти, а только указывает те твердые пути, на которых совершается ее действие. Но если Верховная власть признает эти пути не соответствующими более ее Воле или, другими словами, условиям государственного блага (ибо Воля Верховной власти ничем другим руководиться не может), то она властна сама отменить эти «самоограничения» и установить вместо них новые или совсем не устанавливать никаких.
Читать дальше