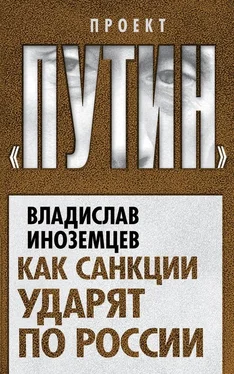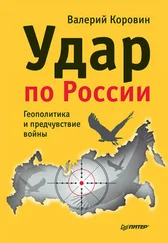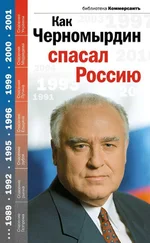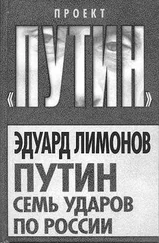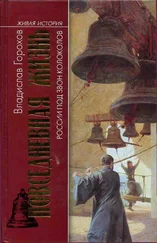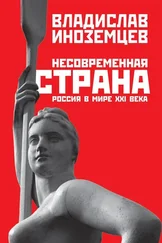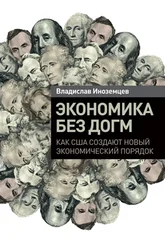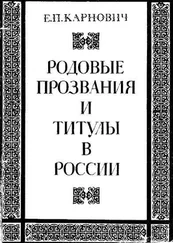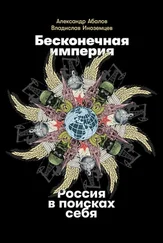C одной стороны, «вала» было легче всего достичь там, где не требовалось радикальных новаций. K 1986 году, когда отчетливо выявились все недостатки административной системы, CCCP занимал первое место в мире по добыче нефти и газа, производству стали и минеральных удобрений, сахарной свеклы и картофеля — но вчистую проигрывал в высокотехнологическом секторе.
C другой стороны, задача повышения темпов прироста экономики всегда доминировала над целью усвоения новых технологических укладов; и даже умиравшая советская экономика стремилась скорее к «ускорению», чем к перестройке.
По сути, все российско-советские модернизации выдержаны в едином ключе: осознавая отставание страны, ее лидеры находили источник финансирования преобразований, затем перенимали передовые технологии извне, осваивали их и стремились максимально использовать для целей расширения той экономики, которая возникала из первичного трансферта технологий. Когда технологический уклад устаревал (как в годы первой Крымской войны, в 1920-е или в 1980-е годы), неизбежно наступал очередной кризис. При этом на каждом новом цикле экономика России оказывалась «монокультурной» и переходила на новый этап развития через мобилизацию, по сути, единственного ресурса: на рубеже XVII и XVIII веков экспорт более чем наполовину состоял из леса и пеньки, в годы советской индустриализации — из хлеба и золота на 60 %, в современной России на топливно-энергетические товары приходится порядка 70 %.
Таким образом, ни одна модернизация в итоге не воплощалась в индустриализацию современного на тот момент уровня и не способствовала встраиванию России на равных в глобальную экономику, а уж тем более «обратному трансферту» технологий и практик в направлении развитого мира.
Это обстоятельство сегодня особенно важно. Все российские модернизации проходили в условиях, когда цели экономического роста определялись государством. Оно же выступало и основным источником инвестиций — собранные подати и налоги, как и природная рента, направлялись в отрасли, признанные приоритетными. Так как приоритетность не предполагала вопроса об эффективности, финансы десятилетиями извлекались из относительно успешных секторов хозяйства и перераспределялись в пользу тех, чья эффективность была как минимум неочевидна. Это создавало иллюзию бурной деятельности правительства и великих свершений страны — но на каждом новом повороте порождало, с одной стороны, сокращение «производительного» класса и рост бюрократии, и, с другой стороны, огромное количество бессмысленных активов. Тысячи советских предприятий остались в новую российскую эпоху долгостроем и руинами, потому что в рыночной среде их эксплуатация приносила «отрицательный доход».
Механизм такого «инвестиционного потока» мы называем суррогатной инвестиционной системой; сегодня она включает прямые дотации из бюджета, ФНБ, ВЭБ, госбанки, РФПИ, «Роснефтегаз», госкорпорации, ОЭЗ и т. д. Ее главная миссия — перелив доходов из рентабельных бизнесов в убыточные за счет бюджета и порой Банка России. Эта система игнорирует самый мощный ограничитель роста в российской экономике: тот факт, что проблемы наши сосредоточены не столько на макро-, сколько на микроуровне — на уровне предприятий и компаний. Упорство, с каким поддерживаются госкомпании, — одна из основных причин снижения эффективности российской экономики. При этом число малых предприятий остается примерно на одном уровне с посткризисного 2009 года, а количество средних падает. Мы же убеждены: эффективность на макроуровне достижима лишь как «сумма эффективностей» на микроуровне. И направление средств в секторы, максимально зависимые от государственных инвестиций, — вне зависимости от их объема и каналов их доставки — является ошибочным.
Какие выводы можно сделать из сказанного?
Во-первых, «закрытие» страны в условиях смены глобального технологического уклада (второй машинной или третьей промышленной революции) идет вразрез с коренными интересами общества. Оно не оставляет надежд даже на новый виток «догоняющей» модернизации, не говоря уж о переходе страны на современную модель органического роста.
Во-вторых, реанимация традиционных для России «количественных» задач (от пресловутого «удвоения ВВП» до обеспечения любыми силами 40 % прироста перевозок «на восточном полигоне железных дорог») — свидетельство неистребимости в сознании нашей элиты дремучей советскости.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу