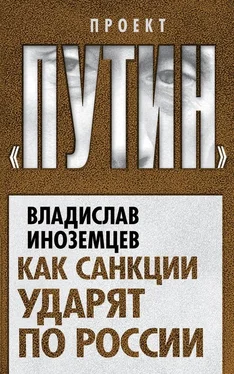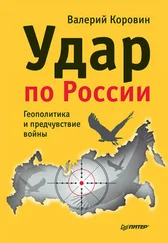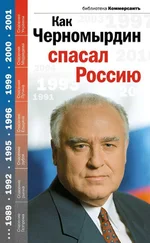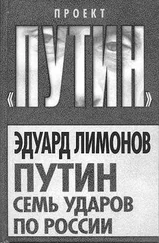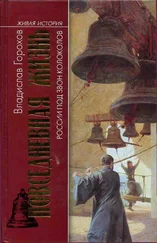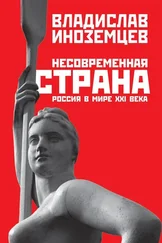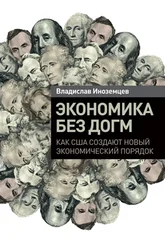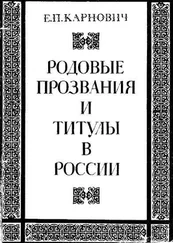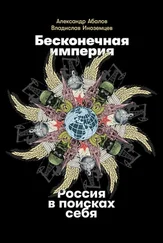Во-вторых, это тезис о том, что «модернизации в сегодняшней России нет альтернативы». Данная мысль красной нитью проходит в трудах большинства тех, кто считает себя специалистами по модернизации (см.: Дискин, Иосиф. Кризис… И все же модернизация! Москва, Издательство «Европа», 2009, с. 7–16). Однако на деле такая позиция очень опасна. Совершенно не очевидно, что модернизация завершится успехом — но укорененное мнение о том, что она не может быть неудачной или провалиться почти наверняка трансформируется в утверждение о том, что «в общем и целом» модернизация удалась, и на ближайшее время данный вопрос может быть снят с повестки дня. Такая подмена понятий очень распространена в современной России: мы видели провалившуюся административную реформу, которую задним числом велено было считать удавшейся; реформу армии, которая большинством экспертов воспринимается как катастрофа, но при этом всячески приветствуется сверху; новации в области образования, отношения к которым со стороны специалистов и власти разнятся диаметрально. Поэтому, сходясь в утверждении о том, что «модернизации нет альтернативы», ее состоящие на содержании у власти адепты создают предпосылки для сведения ее на нет уже в относительно недалеком будущем.
В-третьих, катастрофически негативное влияние на дискуссию оказывает постоянно воспроизводящееся отождествление модернизации с технологическим инноваторством. Мы уже говорили о том, что последние десятилетия на подтверждают гипотезу о более быстром или успешном экономическом росте государств, сделавших ставку на инновации. Более того; разрушенные научная и производственная базы в России не дают основания надеяться на успешность широкой программы развития инновационного сектора. Между тем искусственное смещение акцента на инновации, и, более того, в сторону коммуникационных и информационных технологий объективно приводит к сокращению доли тех, кто с полным осознанием своей миссии станет «прорабами модернизации». Достаточно вспомнить, как в 1960-е годы перебравшиеся в города корейские бедняки стали движущей силой тамошнего промышленного переворота и как китайские крестьяне на рубеже 1970-х и 1980-х годов оказались «мотором» рыночных реформ, чтобы понять: социальная база модернизации должна быть максимально широкой, а не сводиться к сообществу «яйцеголовых», синих от сидения перед мониторами, программистов и блоггеров.
Оценивая состояние обсуждения проблемы модернизации в современной России, можно констатировать как минимум четыре важных момента. Модернизация не рассматривается как радикальная смена социальной и экономической парадигмы, и потому не становится темой, способной спровоцировать социальный конфликт, который мог бы послужить целям развития. Модернизация умело выставляется как проект частный — отраслевой (пять направлений модернизации) или инновационный, — который способен затронуть судьбы и интересы лишь части населения. Модернизация считается неизбежной — а это означает, что глубокого ее обсуждения вообще не требуется. И, наконец, модернизация даже почти через четыре года после ее «объявления» не имеет ни качественных, ни количественных целей и ориентиров, а также критериев, отражающих степень прогресса на этом пути.
Таким образом, я бы рискнул утверждать, что значимой дискуссии по вопросам модернизации в современной России нет. Существуют группы экспертов, которые в «пожарном» порядке дорабатывают бессодержательную «Стратегию-2020», принятую В. Путиным в самый канун экономического кризиса. Есть и альтернативные центры, которые предлагают иногда весьма радикальные и в целом обоснованные рецепты реформ. Однако эти позиции просто заявляются, а не вбрасываются в общественное поле. От власти — в том числе и от президента Д. Медведева — не исходит заказа на серьезное и глубокое изучение как нынешнего состояния российской экономики, так и перспектив ее развития. Отсюда мой скептицизм относительно того, способна ли Россия самостоятельно выработать программу модернизации и реализовать ее. Ha этот вопрос я отвечаю категорическим «нет».
Соответственно и на основной вопрос: имеет ли российская модернизация шанс на успех — я отвечаю отрицательно. Причина тому — не в проклятии российской истории, архаичности русской культуры, забитости народа, превратностях климата или излишнем сырьевом изобилии. Достаточно взглянуть на россиян, перебравшихся за рубеж, чтобы понять: наши соотечественники, как правило, не менее способны к творческой самореализации в бизнесе или науке, чем американцы или европейцы. Российский народ в 1990-е годы проявил не меньше смекалки, чем в самые трудные годы XX века, выстоял в испытаниях, с которыми могут сравниться военные времена, пересмотрел прежние ценности и воспринял новые. Этот народ как никакой другой способен к инновациям и предпринимательству. Проблема в России — не в народе, а во власти, ее задачах и целях.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу