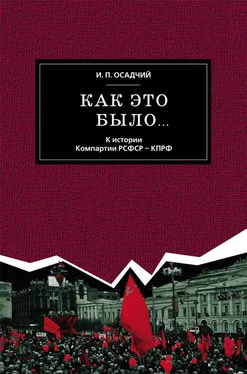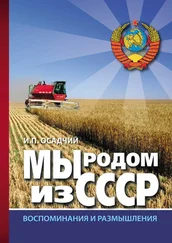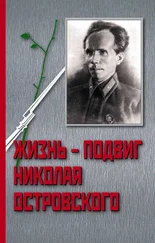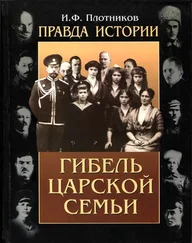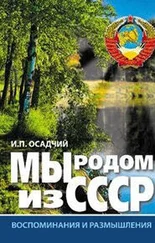В первые дни Октября в столице раскрыт заговор во главе с ярым черносотенцем В. М. Пуришкевичем. Улики налицо: письмо к атаману Каледину. В нем говорилось: «Мы ждем вас сюда, генерал, и к моменту вашего прихода выступим со всеми наличными силами». У Пуришкевича уже готов был и план действий: «Надо начать со Смольного института и потом пройти по всем казармам и заводам, расстреливая солдат и рабочих массами» (Красный архив, 1928, № 1. С. 171). Естественно, следует арест, а вскоре… амнистия по случаю праздника 1 Мая (1918 г.) И где же Пуришкевич? Он в упомянутых уже Яссах агитирует за военную интервенцию, затем помогает Деникину в походе на Москву.
Командарм 5-й армии В. Г. Болдырев за саботаж перемирия на фронте был осужден на три года заключения, но по той же первомайской амнистии великодушно помилован. Генерал не стал терять времени, и вот уже он в составе Уфимской директории в качестве главкома ее вооруженных сил. Ген. В. В. Марушевский, начальник Генерального штаба, за саботаж против новой власти подвергнут аресту. Но покаялся, как и Краснов, и собственноручно написал: «Современной власти считаю нужным подчиняться и исполнять ее приказания». Будучи выпущен на свободу, он спешит в Архангельск, занятый интервентами, и становится главкомом белогвардейской армии Северной области.
Были освобождены из-под ареста министры-социалисты Временного правительства К. А. Гвоздев, А. М. Никитин и С. Л. Маслов. По уверениям В. Солоухина и редакции «Огонька», они были утоплены в Неве. На самом же деле оказались первые два в белогвардейском стане в качестве руководителей кооперации Юга России и, так сказать, нештатных интендантов армии Деникина, а третий – в кресле министра правительства Северной области. И так далее. Примеров «либерализма» большевиков не перечесть. И законно возникает вопрос: не много ли гуманности и великодушия проявили они по отношению к своим непримиримым врагам и не лгут ли с хлестаковским размахом нынешние якобы демократы о «жестокостях» большевиков? Факты доказывают, что лгут и по-крупному.
Партию большевиков фальсификаторы очень хотят усадить на скамью подсудимых будто бы за развязывание гражданской войны. Взглянем в лицо неопровержимым фактам. Оказывается, «напутал» профессиональный предатель с адресом обвинения.
Как известно, со Второго Всероссийского съезда Советов, где посланцы всей страны решали вопрос о власти, меньшевиков и эсеров никто не удалял. Они ушли сами, не желая подчиняться воле большинства народа. «Мы, – напоминал в те дни Ленин, – предлагали разделить власть… К участию в правительстве мы приглашали всех… Мы хотели советского коалиционного правительства. Мы из Совета не исключали никого. Если они не хотели совместной работы, тем хуже для них» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т.35. С. 36–37). Условие было одно – и глубоко демократическое: признать волю большинства народа по вопросу о власти, о земле и мире. Но клявшиеся в приверженности демократии меньшевики и эсеры это условие отвергли и с угрозами и братью удалились из Смольного в городскую думу спешно создавать «Комитет спасения родины и революции», то есть штаб по спасению контрреволюции, развязыванию гражданской войны, в которой затем обвинили большевиков. И вот уже агенты комитета – в стане войск Краснова-Керенского, среди петроградских юнкеров, в Ставке, в Москве, в провинции торопят своих немногочисленных приверженцев к свержению Советской власти.
Вот как оценил их действия – кто бы вы думали? – меньшевик Н. Суханов: «Это был заговор. И это был заговор контрреволюционный, корниловский – не только по возможным последствиям, но и по самому существу. Это был заговор, устроенный кучкой обанкротившихся политиканов – против Петербургского Совета, против законного Всероссийского съезда Советов, против подавляющего большинства народных масс, в котором они сами были также неприметны, как в океане щепки и обломки разбитого бурей корабля» (Суханов Н. Записки о революции. Берлин – Пб. – М., 1923, кН. 7. С. 287–288). Были и среди меньшевиков люди, подчас умевшие говорить правду.
После краха мятежей Краснова-Керенского, петроградских и московских юнкеров Ленин заявил: «Мы не хотим гражданской войны. Наши войска проявили большое терпение. Они выжидали, не стреляли, и сначала ударниками было убито трое наших. К Краснову были применены мягкие меры. Он был подвергнут лишь домашнему аресту. Мы против гражданской войны» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т.35. С.53). В Москве ВРК дважды вступал в перемирие с юнкерами, но они каждый раз срывали его, навязывая революционным силам вооруженную схватку, и в конечном счете проиграли ее. Но население Москвы заплатило за эту авантюру, по некоторым данным, пятью тысячами жертв.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу