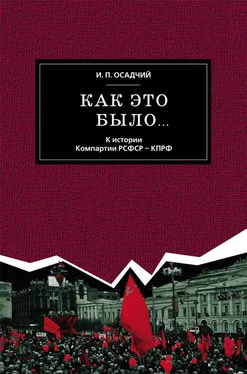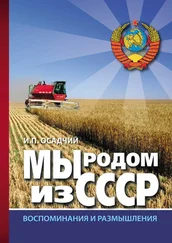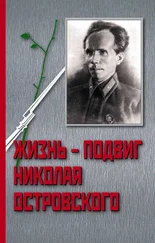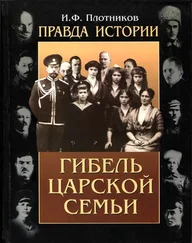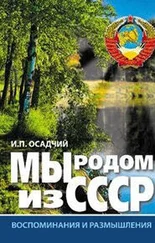К примеру, так было в гражданской войне, длившейся несколько десятилетий, между рабовладельческим Югом и утверждавшимся капитализмом Севера в Соединенных Штатах Америки.
В Англии, Франции, Германии и других странах переход от феодализма к капитализму осуществлялся посредством одной или нескольких буржуазных революций, при разной остроте классовых битв. Отсюда следовал марксистский вывод о классовой борьбе как главном факторе перехода от одной общественно-политической формации к другой.
Россия миновала классическое рабовладение и перешла от первобытнообщинного строя непосредственно к феодализму. Но для ликвидации феодально-помещичьего строя и ее реакционной политической надстройки – самодержавия, потребовалось две буржуазно-демократические революции: в 1905–1907 и в феврале 1917 года…
Идея Г. А. Зюганова о том, что Россия исчерпала лимит на революцию, практически «увековечивает» господство буржуазного, капиталистического строя в России, реставрированного ренегатами-предателями горбачевыми, ельциными и прочими реформаторами 90-х годов ХХ века в угоду международному империализму и доморощенному теневому, криминальному капиталу, горстке финансовых магнатов, ставших владельцами несметных богатств, созданных самоотверженным трудом нескольких поколений советских людей, и сделавших многие и многие миллионы граждан России обездоленными, угнетенными, эксплуатируемыми.
Ясно, что Г. А. Зюганов пришел к своему выводу не в кругу ученых-марксистов, а в пацифистско-православной среде, в кругу «патриотов-государственников», где в почете идеи «христианского социализма», суть которого, по определению К. Маркса и Ф. Энгельса, состоит в следующем: «Святая вода, которой поп кропит озлобление аристократов». (Маркс К., Энгельс Ф., т. 4, стр. 448–449).
В любом случае, мне представляется, что Г. А. Зюганов поступил весьма опрометчиво, доверившись собственному умозаключению или под влиянием своих прежних соратников-единомышленников – «патриотов-государственников» (державников), – обнародовал явно не марксистский вывод. Этим, явно ошибочным «тезисом», он обрекает классовую борьбу трудящихся на бесперспективность, а значит, – бессмысленность. Это не могло не отразиться на деятельности КПРФ…
Обратимся к мнению одного из виднейших советских и российских ученых – исследователю истории социалистической революции и гражданской войны в СССР – Павлу Акимовичу Голубу, многие годы возглавлявшему сектор истории революции и гражданской войны в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Авторитет его в этой области исторической науки не вызывает сомнений у всех ученых, причастных к исследованию этой проблемы. Вот его взгляд на суть вопроса:
«Революции приходят, не спрашивая разрешения. Их законность – воля народа, как высшего суверена. Революции – объективный, ни от чьей воли не зависящий процесс. Его можно затормозить, как это делали жирондисты во Франции и меньшевики с эсерами в России, можно содействовать ее движению вперед, как это делали якобинцы во Франции и большевики в России, но предотвратить это явление не в силах сам Господь Бог. Они приходят там и тогда, где и когда большинство членов общества не в силах больше терпеть произвол и беспомощность властей, а власти неспособны исправить положение. Классический пример неизбежного складывания такой ситуации дает сегодняшняя Россия.
В кругах будто бы демократической интеллигенции в связи с нынешним кризисным состоянием в стране множатся лукавые идейки насчет «исчерпанности лимита на революции». По недоразумению они подчас звучат и в рядах оппозиции. (П. А. Голуб «пощадил» Г. А. Зюганова, не стал называть его имя).
Перевод этой формулы на простой язык означает: вот мы, «демократы»… пришли к власти и на этом точка. Никаких революций. Так будет вечно. Но вечного ничего не бывает, господа. Разве вся мировая история не подтверждает это?
За разговорами о лимите на революцию кроется и другое. Идеологическая обслуга нынешнего режима постоянно внушает гражданам, что революции – это кровь. Но по чьей вине была кровь? Призовем в свидетели беспристрастную историю.
Революция в строго научном смысле – это переход государственной власти от одного класса к другому. Это Маркс и Ленин, как говорится, разжевали и в рот положили. И против этого не возражали даже их идейные противники. Но этот переход может быть разным: и мирным, и немирным. Кто выступает за первый, кто за второй и почему на деле реализуется один из них? Что касается большевиков и возглавляемого ими пролетариата, то Ленин еще в конце прошлого века заявлял: мы предпочли бы взять власть мирно. Но прозорливо добавлял: господствующие классы, скорее всего, мирно власть не уступят… Так было во всех революциях. Как правило, они защищали свою власть с крайним ожесточением. Вот где корень зла, вот по какой причине революции обагрялись кровью. Как раз этот момент и скрывают противники коммунистов…» («К 80-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Ответ фальсификаторам Октябрьской революции». М, издательство «Былина», 1997, стр. 67–68).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу