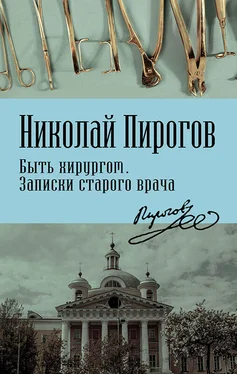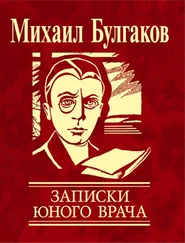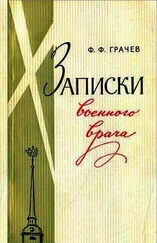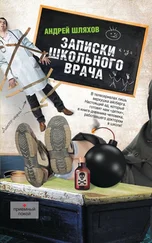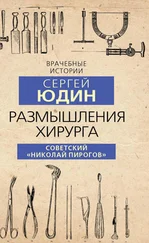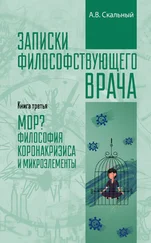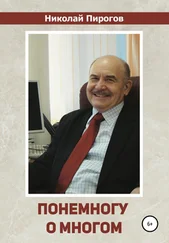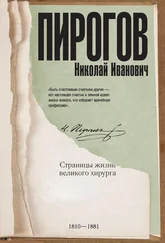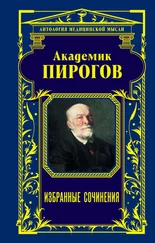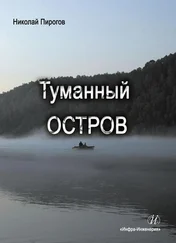По стерне, после снятия кукурузы, по оставшимся от нее клочкам, ходит братушка и молдаванин и сеет осенью пшеницу, без всякой подготовки, а потом зараливает каким-то допотопным ралом, парою буйволов, а то так родят и так падающие зерна, при снятии жатв.
Первобытное поверье в неисчерпаемое плодородие залежи служит, мне кажется, основанием и наших современных социальных убеждений. Да, наш народ верит еще в землю, чуть не в божество земли. «Наша земля, – говорил мне один крестьянин в моем имении (Подольской губ[ернии]), – не любит железа: перестанет родить, если ее много железом трогать». – «А навоз?» – «Навоза тоже не хочет, бурьяном порастает. Значит, землю не тревожь, она рассердится». Поверья, очевидно, ведущие свое начало от времен залежного, переходного, полукочевого земледелия. Снял урожая три, четыре, – довольно; земля не очень возлюбляет железо – ступай на другое, свежее место.
Немцы наши, колонисты, переселившиеся в юго-восточные наши степи из культурной страны, знакомые уже с искусственною системою полеводства, прибывшие к нам с некоторыми денежными средствами, притом народ трезвый, бережливый, грамотный, протестант и даже меннонит [192] Меннониты (по имени основателя Менно Симонса, Menno Simons) – одно из протестантских течений, выделившихся из анабаптизма в начале XVI века; меннониты проповедуют смирение, непротивление злу насилием, нравственное совершенствование.
, да сверх того получивший льготы от нашего правительства (освобождение от податей, рекрутской повинности), – колонисты, говорю, несмотря на все эти благоприятные условия, все-таки, как люди опытные и знакомые с делом, не поддались иллюзиям и, несмотря на большие земельные наделы, по несколько десятин девственной почвы на каждого хозяина, чрез несколько лет учредили у себя майораты.
Около Одессы я знал несколько таких колоний (например, Люстдорф). Чтобы не дробить хозяйства на мельчайшие участки в наследство, по смерти отца поступал весь его земельный надел и инвентарь в наследство меньшему сыну, а другие дети получали от брата-наследника выплату деньгами и движимостью.
Вследствие этих порядков старшие сыновья приготовлялись быть ремесленниками, учителями и т. п. и отрывались от земли. Пролетариат от этого не образовался. Нам столько нужно умелых людей, что всякий, сколько-нибудь ознакомившийся с каким-нибудь делом, долго еще может избегать пролетариата. Следуя же укоренившейся у нас вере в землю как единственный талисман против нищеты и пролетариата, мы все-таки не предотвратим пагубного раздробления земельных наделов, отнимем у многих тысяч людей нового поколения верный хлеб и средства к наживе ремеслом и ученьем, принудив заниматься земледелием без оборотного капитала при истощенной уже почве и неблагоприятных климатических условиях. Не надо забывать, что земледелие из года в год, по мере истощения почвы, делается все более и более сходным с фабричным или, по крайней мере, кустарным ремеслом и требует все более и более денежных затрат и оборотного капитала.
Конечно, если бы можно было наделить всех поровну по 500 или 1000 десятин на каждое крестьянское хозяйство, то, вероятно, опасность пролетариата отдалилась бы от нас на целые столетия, хотя тогда, верно, немало бы явилось охотников продать лишнюю землю, с которою им не под силу было бы справиться.
Теперь в земледелии едва ли уже не дошло, по крайней мере в некоторых местах, до того, что сбываются слова Евангелия: имущему дастся, а у неимущего отнимется. Что, в самом деле, предпринять бедняку с своим наделом, если у него нет семьи, все померли, или и есть семья, да только со ртами, а не с рабочими руками?
Надел, даже в количестве, определенном в Своде законов для крепостных, в 8 десятин, не вложив в него, кроме своего личного труда, еще рублей 150–200, не только не выплатит себя, но и не всегда прокормит семью. Поэтому, если хотят предотвратить, хотя бы в ближайшем будущем, пролетариат, основав все настоящее и будущее благосостояние крестьянства на земле, то надо вместе с достаточным наделом землею еще придать и оборотный капитал или, по крайней мере, не брать податей первые годы. Это – по теории; на практике вышло бы, вероятно, другое: и оборотный капитал, розданный по рукам, и прощенные подати не пошли бы впрок так, как бы этого хотелось доктринерам.
Весьма отличительная черта в характере русского народа, отличающая его от западных наций и даже от южных славян, это совершенное отсутствие бережливости. Встречается иногда скряжничество, циническая скупость, но склонности к сбережению нет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу