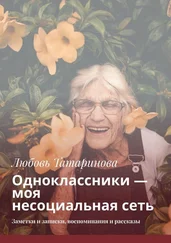10 августа. Мне кажется, во всей моей жизни у меня не было такого мучительного состояния. Утром — длительный разговор с Зиночкой, разговор, ничего не изменивший. Что бы и как бы ни происходило, она, как и Лёля, они обе — части моей собственной личности. Но я не могу быть в положении отданного на милость кого бы то ни было. Объективно — нет иного выхода, как обращаться к формальному восстановлению права, правды и справедливости [366].
Днём пытался работать за письменным столом. После обеда по настоянию Лёли ездил с ней заказывать костюм на Невский. Дал Лёле нотариальную доверенность на ведение дела по владению домом на «Полоске». Затем навестил Лидиньку.
12 августа. Была на «Полоске» Татьяна Степановна. Сильно постарела. По-прежнему деятельна, по-прежнему — ценный общественный работник. Вечером был Мих. Юр. Магарил. Чистый душой. Добросовестный.
22 августа. Зиночка трогательно внимательна ко мне. Так хочется выразить ей признательность, добиться, чтобы она понимала, что при всех условиях, независимо ни от чего, моя привязанность к ней и чувство взаимосвязи неизменны и неколебимы. Но я не могу иначе действовать, как внешне, так и формально, я должен быть независимым, не опекаемым, я не могу не внести исправления в то, что ощущаю как несправедливость и неправду в отношении меня (с наследованием «Полоски»). По отношению ко мне хочу хоть частично того, что я в полной мере и, безусловно, выполняю нерушимо в отношении других.
Вечером были длительные, раздирающие мне душу разговоры Зиночки и Лидиньки со мною. Столько несправедливости, воспринимаемой мною как жестокость ко мне, со стороны Зиночки. С трудом занимался диссертацией Лукашевича. Вечером Зиночка, Арсений Владимирович и Наташа [367]уехали с «Полоски».
23 августа. Поздно вечером Шура привезла от Зиночки убийственное письмо. За что мне такое жестокое, свирепое горе?! Поздно ночью ещё более тяжкие разговоры с нею по телефону.
24 августа. Разговор с Зиночкой по телефону, а затем я поехал, чтобы встретиться с нею и идти по её просьбе с нею в наследственный отдел нотариата. Там, как на Голгофе, распинали меня такая заботливая, такая только обо мне пекущаяся родная дочь при моральной поддержке кроткой Лидиньки. Не выдержав, я ушёл, разбитый физически, изнемогающий, чтобы раздираться в одиночестве на «Полоске».
25 августа. Трудно мне. Стараюсь притупить отчаяние физическим трудом. Осмотрел выросший за годы советской власти Бабуринский сквер — с прудом, с бюстом Маркса, с огромными тенистыми тополями, дубами, липами. А 30 лет тому назад здесь была свалка.
В 5 часов — Нарсуд. Свидетели — Толя Бедункович (увы, теперь седой и лысый подполковник авиации Анатолий Георгиевич) и Андрей Григорьевич Подвысоцкий. Невыразимо больно. Вечером до 10 часов пробыл у меня Андрей Григорьевич. Ночь всю — приступы колики, от боли — грелки. Чувство безнадежной слабости и немощности.
30 августа. Утром отливал воду из борозд на поле орошения. Были у меня Магарил и Цеймах. Оба трогательно милые люди. По поручению кафедры: запинаясь и путаясь, М. Ю. Магарил сообщил, что кафедра хотела бы активно облегчить для меня всякие трудности. Но я и сам не знаю, — в чём и как.
9 сентября. Вместе с Борисом Ивановичем Карпенко и Лёлей был в Нарсуде с половины первого до 6 часов. Совершенно непонятная для меня озлобленность Зиночки против Лёли. Заявление написано с поражающим сутяжническим расчётом. И всё это мне приходится пережить. Горечь и омерзение оставляют в душе невыносимую боль.
Лёля добросовестно не понимает происходящего и так же, как и я, готова на какие угодно уступки. Ни мне, ни другим — ни одного дурного слова о старшей сестре, против неё, не говорит, но страдает, как и я, страшно [368].
Всё неотступнее и явственнее в глубине моего сознания в 1948 г. звучала гложущая меня тревога: преследующее меня ощущение огромной массы невыполненных задач, стоящих передо мною. Число их, их размеры растут беспощадно, а успеть их выполнить уже для меня непосильно!
И другое горькое сознание всё чаще омрачало моё настроение: люди — наши близкие, друзья, с которыми мы чувствуем взаимное понимание, уважение и единство, — самая большая ценность из всех доступных человеку ценностей жизни, и этой ценности теперь с каждым годом остаётся у меня всё меньше. Одни уходят из жизни, в отношениях с другими ослабляются, стираются нити тесной внутренней взаимопринадлежности, а новых, свежих за десяток последних лет уже не образуется. Это самый трагический в моём сознании итог истекшего 1948 г.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


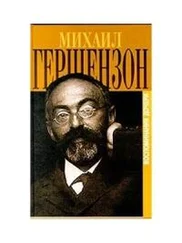

![Николай Фигуровский - Я помню... [Автобиографические записки и воспоминания]](/books/388931/nikolaj-figurovskij-ya-pomnyu-avtobiograficheskie-thumb.webp)