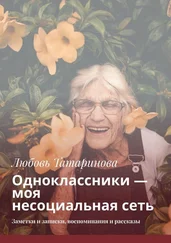Раздышка моя от допросов продолжалась недолго. Меня опять вызвали в утренние часы. Допрашивал Леонтьев, тот самый, который ночью угрожал мне, что рукояткой револьвера разобьёт мне череп, если я не назову имена и фамилии всех моих знакомых. На этот раз он предложил мне сесть за отдельный столик, на котором стояла чернильница и лежал листок бумаги, и написать ответ на вопрос о голубях: кто мне привозил или приносил голубей, сколько и когда. Вопрос был так бессмыслен и так явно нелеп, что я просто не мог понять его. Я ему объяснил, что никаких голубей у меня не было, и я не могу понять, чего он от меня хочет. Он быстро подошёл к столику, за которым я был посажен, и стал наносить мне удары по лицу и плевать мне в глаза. На мои вопли вбежал тюремный страж, у которого я просил дать мне воды, чтобы помыть лицо. К моему удивлению, на этот раз стражник, не спрашивая разрешения у следователя, поправил сваленный на пол стул и быстро принёс чашку воды и помог мне умыться. «Следователь» предложил мне выпить принесённое по его распоряжению молоко. Его предложение осталось без всякой реакции. С грубой, общепринятой у этих палачей бранью, он приказал мне написать ответы на вопросы о голубях. Я написал, что голубей не разводил, никто никаких голубей мне не приносил и не привозил. После этого я был отправлен в камеру. Оказалось, что в камере были слышны мои вопли. Предложенные мне вопросы о голубях не вызвали удивления у моих товарищей по камере. Мне разъяснили, что следователь имел в виду почтовых голубей, чтобы пришить мне построенное на этом обвинение.
Ночью меня опять повели на допрос. Этот допрос тянулся долго. Сначала его вёл молодой парень — Фалин. Он долго и много говорил, вернее не говорил, а кричал, укоряя меня за то, что тридцать лет тому назад я был членом 1-й Государственной думы. Следовательно, теперь я должен ответить за все «провинности» фракции, к которой я принадлежал, и должен раскрыть все пути, которыми поддерживаются сношения с бывшими членами Думы. Я очень спокойно разъяснил, что решительно и безусловно ни с кем из бывших членов Думы не поддерживаю никаких связей и не знаю, живы ли они и если живы, то где находятся в данное время.
Затем Фалин передал меня какому-то другому следователю, и меня повели в подвальный этаж. Там допрос продолжался с обычными приёмами продолжительного стояния. При этом из-за перегородки всё время неслись душераздирающие крики избиваемого. Мне кажется, от утомления я впал в какое-то остолбенение, что-то отвечал, писал какое-то показание, упоминая в нём медицинскую газету «Lancet», которую обычно просматривал в Публичной библиотеке. Утром меня повели куда-то в верхний этаж, и там меня допрашивал какой-то более важный и не столь молодой чин по фамилии Кудрявцев, как мне сказал об этом сидевший рядом с ним и о чём-то ему докладывавший Фалин.
Это была уже вторая ночь, как меня непрерывно передавали из рук в руки для допроса. По существу мне не было предъявлено никакого обвинения и ни о чём определённо меня не допрашивали. Здесь опять вновь и вновь меня изнуряли и измочаливали долгим, бесконечным стоянием, с наблюдением, чтобы я не приближался и не опирался как-либо о стену. Наконец, силы покинули меня. Я беспомощно повалился на пол. Строгими окриками и приказами тюремному стражнику поставить меня, ещё на несколько часов продлили моё стояние. Потом я свалился на пол и мне, как особую милость, предоставлено было остаться в забытьи. Потом я услышал окрик: «Теперь довольно, вставай!» Я осмотрелся и не сразу понял, что я в той же комнате, на допросе. Но обоих моих допрашивателей я не узнал. В полумраке комнаты мне казались они людьми с длинными бородами. «Вы знаете, где вы и кто с вами говорит?». Эти двое почему-то обращались непривычно — на «Вы» и не сопровождали своё обращение ко мне принятыми здесь омерзительными бранными словами. Меня допрашивал «следователь» Фалин, но он был без бороды. Нечего фантазировать, и теперь никакой бороды нет. Было утро, тянулся мучительный, бесконечный день, я всё стоял. Казалось, что мучителям до меня нет никакого дела. К Кудрявцеву приходили подчинённые и вышестоящие лица, вели с ним разговор, а меня, как мебель, то отодвигали подальше в угол, то ставили поближе. Меня спрашивали о журнале «Lancet», то совершенно бессвязно о Государственной думе 1-го созыва. Так как от полного изнеможения глаза у меня стали закрываться, то ко мне был приставлен большого роста крепкий служитель, не в тюремной форме (по-видимому, какой-то страж, проходивший «производственную практику»), которому поручено было раздвигать и поддерживать открытыми веки моих глаз. Вероятно, он считал меня в чём-то виноватым и потому без всякого человеческого сожаления производил эти процедуры, иногда при этом приговаривая вполголоса: «Будешь знать, будешь помнить, что советской власти вредить нельзя». Я неизменно повторял, так же вполголоса, что никогда и в помыслах не имел вредить советской власти, а всегда работал на пользу того дела, которое мне советским правительством поручалось.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


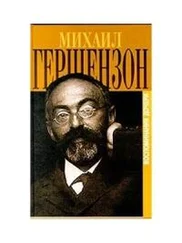

![Николай Фигуровский - Я помню... [Автобиографические записки и воспоминания]](/books/388931/nikolaj-figurovskij-ya-pomnyu-avtobiograficheskie-thumb.webp)