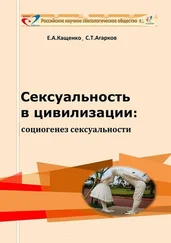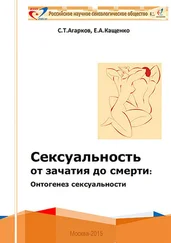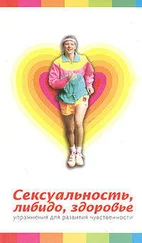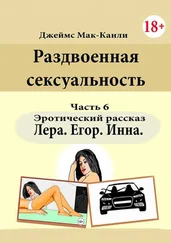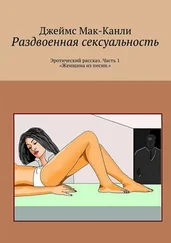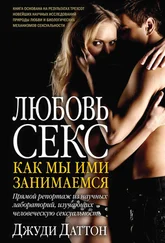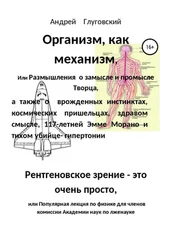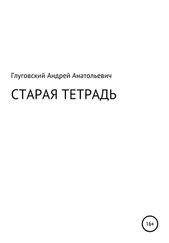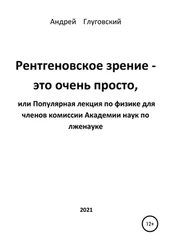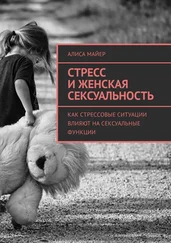Цивилизация возникла и развивалась постольку, поскольку возникли и развивались социальные формы жизнедеятельности. Именно эти формы явились границей, отделившей человека от всего остального мира, именно они закрепили его исключительное положение и обеспечили беспрецедентную экспансию одного вида по отношению ко всем остальным. В биологическом отношении человек, как вид, не имеет ровно никаких преимуществ перед другими видами и представляет собой рядоположное явление. Поэтому совершенно естественно, что производство социальных структур, их расширение и универсализация стали абсолютной ценностью и главной целью развития цивилизации, реально воплощающейся в практике, независимо от её осознания как таковой и независимо от того, насколько адекватно она отражалась в политическом, религиозном или правовом рефлексировании.
Разумеется, при этом незыблемой оставалась необходимость биологической формы производства жизни, так как в случае деградации человечества как биологического вида неизбежна и последующая деградация его как вида социального. Но мы говорим о приоритетности в развитии одной из форм производства жизни, а не об их фиксированном актуальном соотношении, раз и навсегда данном. Биологическая форма в рамках цивилизации развиваться не может, так как человек, как вид, исключён из общеприродных биологических взаимодействий. Он не противостоит, как биологический вид, другим биологическим видам, но противостоит как вид социальный. Степень интенсивности и успешности противостояния может иметь множество градаций — от вспомогательного значения социальных факторов во взаимодействии человека с окружающей средой до, к настоящему моменту ещё не достигнутой, абсолютной экспансии человека над всеми формами природных взаимодействий.
На фоне закреплённых, относительно неподвижных механизмов биологических форм жизнедеятельности социальная обусловленность человеческого существования возрастает всё ускоряющимися темпами. При этом происходит не только падение абсолютной значимости биологической саморегуляции вида, но и перевод части её функций в область регуляции, а затем и саморегуляции социальной. Изначально находящиеся в контексте биологической функциональности потребности в защите тела от неблагоприятных внешних воздействий, в добывании пищи и прочие уже давно реализуются в рамках социальных механизмов. Конечно же, в такой ситуации витальные потребности человека не могут не социализироваться, не отодвигаться на второй план, их отправление неизбежно приобретает в этических системах характеристики низменности, постыдности. Возникают такие характеристики в интересах не биологической, а социальной составляющей индивида, в подкрепление механизмов социального производства и воспроизводства.
Индивид вынужден мириться с такой редукцией его биологической функциональности, так как его защищённость от окружающего, а также удовлетворение его естественных, биологических потребностей и возникающих сверхпотребностей всё меньше регулируется его физическими и биологическими взаимодействиями с окружающей средой и всё больше — социальными. Ради достижения благополучия в рамках цивилизованного общества индивиду приходится жертвовать частью своей биологической функциональности и физиологической автономности. Эта переориентация происходит медленно, но неизбежно, человек постепенно теряет свойства биологического существа. Это рассуждение, разумеется, не означает что мы уже перестали или вот-вот перестанем подчиняться биологическим законам. Речь идёт о тенденции, которая никогда не осуществится в полной мере, но, тем не менее, явно присутствует в современном развитии и определяет его. Это достаточно просто проиллюстрировать.
3
Базовым свойством, отличающим биологическую и социальную системности в рамках одного вида, является способ активности, направленный на окружающую действительность. Предположим, что существует некое существо, которое может реализовать в чистом виде либо тот, либо другой способы.
Биологические взаимодействия предполагают прямые и неопосредованные, неотсроченные контакты между их участниками (под биологическими мы, в данном случае, будем понимать также и взаимодействия, где один из участников биологическое существо, а другой принадлежит к добиологическим, физическим формам материи). Скажем, для удовлетворения голода животное либо убивает другое животное, либо поедает растения. И в том, и в другом случае оно потребляет продукты, данные ему в готовом виде, не требующие предварительной переработки. Спасаясь от непогоды или опасности, животное также использует естественные природные укрытия, минимально приспосабливая их к своим потребностям. Однако, основным показателем биологичности является не "естественное потребление", а то, что в таких взаимодействиях индивид выступает абсолютным субъектом отношений и остаётся всегда одиноким в своём противостоянии объекту потребности, так как он потребляет, прежде всего, как представитель вида, и только во вторую очередь — как индивид.
Читать дальше