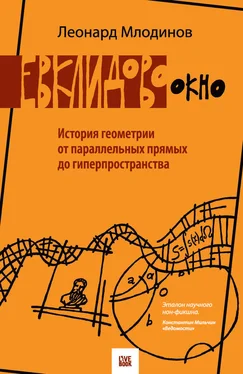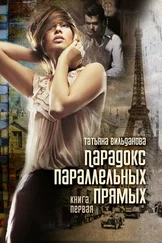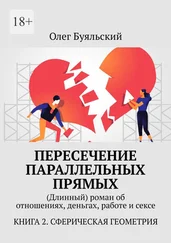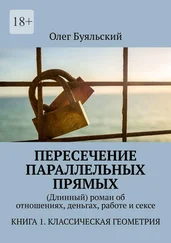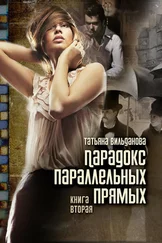С точки зрения сыновей каждая вспышка есть событие, происходящее в их мире, т. е. в вагоне метро, который они оправданно воспринимают в покое. Как и их родители, они не видят причин, почему свет от вспышек не должен перекрыться на полпути между ними. И поэтому когда свет вспышек перекрывается ближе к Алексею, оба делают вывод, что Николая сфотографировали первым. И хотя родители синхронизировали вспышки, фотографирование не воспринимается синхронным в системе отсчета, которая движется относительно их самих. Отец теперь корит себя, что не придумал иначе — так, чтобы вспышки произошли одновременно не для них с мамой, а для детей.
Ну хорошо, все понятно, скажете вы, но кому тут мы голову морочим? В заданных условиях именно дети перемещаются, а родители находятся на неподвижной платформе. Так может казаться, потому что Земля представляется нам неподвижной, но это, само собой, не так. Представьте наблюдателя в космосе: Земля для него вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси, и поэтому допущения, что либо поезд, либо платформа так или иначе можно считать «покоящимися», имеют очевидные ограничения. Или вот что: отбросим всякие декорации и представим детей и родителей в пустом пространстве. Теперь у нас действительно нет внешнего ориентира для определения, кто же движется. Эффект совершенно тот же — и он подлинный: то, что родители воспринимают как одновременное, таковым не видится детям, и наоборот.
Потеха в метро
С отменой одновременности возникает относительность времени и пространства. Чтобы убедиться в этом, достаточно лишь заметить, что для измерения длины чего угодно нам необходимо сначала отметить концевые точки измеряемого объекта, а затем приложить к нему мерную линейку. Если объект по отношению к нам покоится, эта задача тривиальна. А если объект движется, потребуется промежуточный шаг. Мы могли бы, например, отмерить две концевые точки на неподвижном объекте — на покоящемся листе бумаги, скажем, пока объект перемещается вдоль этого листа. Затем, как и в первом случае, можно приложить линейку и померить расстояние между двумя нашими отметками. Однако делать эти отметки нам придется — ох уж это гнусное словечко! — одновременно. Если же мы ошибемся и сделаем одну отметку раньше второй, конец нашего объекта переместится на некоторое расстояние и полученные размеры не будут истинными. К сожалению, когда мы производим то, что считаем одновременными замерами, человек, движущийся вместе с измеряемым объектом, таковыми их считать не станет. Он обвинит нас в том, что мы отметили один конец прежде другого и тем самым получили неверный результат. Это означает, что у объектов нет длин в абсолютном смысле слова. Их длина зависит от наблюдателя. А это уже совсем иная геометрия.
Часто говорят, что в теории относительности движущиеся объекты воспринимаются как сжатые в направлении их движения. Это означает, что объект, измеряемый наблюдателем, считающим объект движущимся, будет воспринят как более короткий, нежели в случае наблюдателя, который считает объект неподвижным. Эйнштейн обнаружил аналогичные аномалии и в поведении времени. Движущиеся относительно друг друга наблюдатели не договорятся о длинах или интервалах времени или о том, сколько времени прошло. Подобно пространственным, и временные промежутки не имеют абсолютного значения.
Время, которое наблюдатель отмеряет между двумя событиями, находясь на одном месте, — что в его системе отсчета есть фиксированная точка пространства, — называется собственным временем. Любой другой наблюдатель, находящийся в движении (с постоянной скоростью) относительно первого, воспримет временной интервал между двумя событиями как больший. Поскольку относительно себя самих мы всегда находимся в покое, время нашей жизни, измеряемое другими, всегда дольше, нежели его воспринимаем мы сами (фактор общего ускорения жизни в расчет принимать не будем). Другим кажется, что наши часы отстают. Но мы, увы, умрем по сигналу внутреннего таймера, который движется вместе с нами. В специальной теории относительности трава на соседской лужайке и впрямь зеленее.
Что это означает применительно к законам движения? В специальной теории относительности объекты все еще подчиняются первому закону Ньютона: они движутся по прямой, если на них не действует внешняя сила. Наблюдатели могут не соглашаться в том, какой длины тот или иной сегмент этой самой прямой, — но не в том, что она, в принципе, прямая. Однако это пока и не «релятивистская формулировка» первого закона: в теории относительности для разных наблюдателей пространство и время по-разному взаимодействуют друг с другом. Для того, чтобы и пространство, и время оказались охвачены одной теорией, понятия геометрии необходимо видоизменить.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу