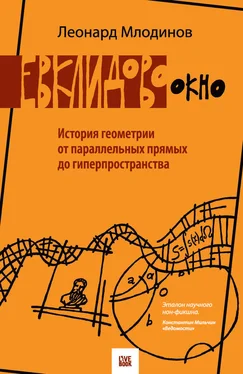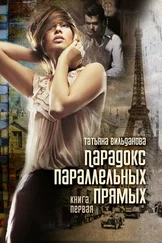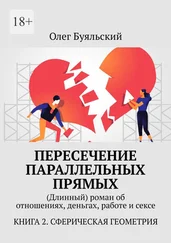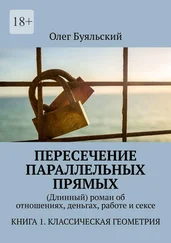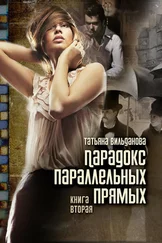Ключевая теорема, выведенная мертонской школой, — мертонское правило — оказалась своего рода мерной линейкой в гонках черепахи и зайчихи. Вообразим некоторую черепаху, которая бежит, скажем, одну минуту со скоростью, допустим, в одну милю в час. А теперь вообразим зайчиху, стартующую еще медленнее, но с постоянным ускорением — так, что к концу минуты она несется с гораздо большей прытью, чем ее соперница, движущаяся с постоянной скоростью. Согласно мертонскому правилу, если через минуту движения с постоянным ускорением зайчиха бежит вдвое быстрее черепахи, они прошли к этому моменту одно и то же расстояние. Если скорость зайчихи больше черепашьей более чем вдвое, она окажется впереди, а если менее чем вдвое — отстанет.
Если облечь все это в ученые термины, правило звучит так: расстояние, пройденное объектом с постоянным ускорением из состояния покоя, равно расстоянию, пройденному объектом за то же время со скоростью, равной половине от максимальной. С учетом мутности представлений о местоположении, времени и скорости, а также недоразвитости инструментов измерения мертонское правило производит сильное впечатление. Однако без приемов матанализа или алгебры мертонцы никак не могли доказать своих рассуждений.
Николай Орезмский доказал это правило геометрически, применив методику графиков. Он принялся откладывать время по горизонтальной оси, а скорость — по вертикальной. Таким способом постоянная скорость отображалась в виде горизонтальной прямой, а постоянное ускорение — линией, устремляющейся вверх под некоторым углом. Орем понял, что площадь под этими линиями — прямоугольник и треугольник соответственно — есть пройденное расстояние.
Расстояние, пройденное объектом с постоянным ускорением (в мертонском правиле), таким образом, есть площадь прямоугольного треугольника, чье основание пропорционально времени движения, а высота представляет максимальную скорость. Расстояние, пройденное объектом с постоянной скоростью, задается площадью прямоугольника с таким же основанием, как и у треугольника, а высота его вполовину меньше высоты треугольника. Оставалось лишь доказать, что площади этих двух фигур равны. Например, если удвоить этот треугольник, достроив к его гипотенузе такой же, и удвоить прямоугольник, достроив к нему такой же по верхней стороне, получится одна и та же фигура.
Орем применил аналогичное графическое рассуждение [106]при формулировке закона, который обычно приписывают Галилею: расстояние, пройденное объектом с постоянным ускорением, растет с квадратом времени. Убедиться в этом можно, представив вновь все тот же прямоугольный треугольник, чья площадь есть расстояние, пройденное с постоянным ускорением. Эта площадь пропорциональна произведению основания на высоту, а они в свою очередь пропорциональны времени.
Такое интуитивное понимание Оремом природы пространства не менее поразительно. А еще Николай Орезмский утер Галилею нос [107], фактически сделав вклад в эйнштейнову теорию относительности. В пределах этой теории имеет смысл лишь относительное движение. Учитель Орема в Париже, Жан Буридан, считал, что Земля не может вращаться: если бы она вращалась, стрела, пущенная вертикально вверх, падала бы в другое место. Орем возразил своим примером: мореход на корабле, вытягивая руку вдоль мачты, воспринимает это движение как вертикальное. Однако нам с суши это движение увидится как диагональное — потому что корабль движется. И кто же тогда прав? Орем считал, что сам вопрос в данном случае сформулирован неверно: невозможно выяснить, происходит ли движение объекта без соотнесения его с другим. Ныне это наблюдение иногда называют принципом относительности Галилея.
Николай Орезмский не опубликовал множество своих трудов, а многие не довел и до логического завершения. Во многих своих рассуждениях он подошел вплотную к научному перевороту, но во имя Церкви всякий раз отступал. К примеру, опираясь на свой анализ относительности движения, Орем пришел к размышлениям о том, можно ли развить астрономическую теорию, согласно которой Земля бы вращалась и даже двигалась бы вокруг Солнца, — эти революционные идеи позднее провозгласили Коперник и Галилей. Но Орем не только не смог убедить в этих представлениях своих современников, но и сам в конце концов от них отказался, и сдался он не перед доводами разума [108], а перед Библией. Ссылаясь на псалом 93: 1, Орем писал: «Облечен Господь могуществом [109]препоясан: потому вселенная тверда, не подвигнется» [110].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу