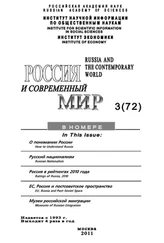у Шекспира толпа расходится, удовлетворенная зрелищем и насыщенная убийством, но не омытая кровью жертвенной [100].
Будущий синтетический театр предполагает другое:
…Довольно зрелищ… мы хотим собираться, чтобы творить – деять – соборно, а не созерцать только. Довольно лицедейства, мы хотим действа [101].
И, наконец, Иванов, проповедник мистического «мирного анархизма», перебросил мост от оргийности искусства к оргийности политической толпы. Будущий театр станет орудием мифотворчества, пишет он, но при этом не забудем, что
…мифотворческая трагедия эллинов часто бывала вместе и политической драмой, и община, праздновавшая в театре праздник Великих Дионисий, превращалась в мирскую сходку, бросая свой восторг или свою ненависть на государственные весы [102].
И уже входя в область политической мистики:
И только тогда осуществится действительная политическая свобода, когда хоровой голос таких общин будет подлинным референдумом истинной воли народной [103].
При этом Иванов чувствовал всю сомнительность своих окончательных выводов, когда писал в «Родном и вселенском» об опасности Диониса в России, где ему легко явиться «силой гибельной и разрушительным неистовством»…
Иванов в дальнейшем несколько раз возвращался к идеям и планам Скрябина в лекциях, или, как он называл, «чтениях» (в 1916, 1917 гг.), а тексты, написанные в разные годы, правил, дописывал, собрал вместе и решил выпустить в «Алконосте», но в 1919 г. издательство прекратило свое существование, и впервые книжка была издана московским музеем Скрябина только в 1996 г. по рукописному тексту, сохранившемуся в РГАЛИ [104].
Старые идеи повторяются или предстают в новых вариантах. Так, Скрябин, писал Иванов,
возвестил, что кончилось искусство с отражениями изживаемой жизни… вовсе не будет искусства или оно будет рождаться из корней самого бытия и рождать бытие – и потому станет важнейшим и реальнейшим из действий, что миновала пора произведений искусства и отныне мыслимы только его события [105].
Подведем итоги. С. С. Аверинцев писал, что Иванов понятен только из
принятой им абсолютно всерьез трансперсональной перспективы. Он не лукавил, не играл парадоксами, когда указывал на специфический русский, более того славянофильский специфический характер этого универсализма в своей ориентации на вселенское. Ведь в остром переживании всечеловеческого единства – в некотором смысле предельная точка развертывания импликации славянофильской идеи соборности [106].
Добавлю, и это не только в культурфилософском плане. Иванов в последние годы именно в чтениях о Скрябине и в некоторых других работах связывал готовность русской культуры свершить дионисийскую мистерию с укорененностью славянских корней в эллинстве, в сущности, возвращаясь с кругов наднациональности в тот локализм, в котором в свое время упрекал Гёте, Ницше и Вагнера. В этом смысле характерно его высказывание в эссе «Эллинство и варварство»:
Дионис – фракийский бог Забалканья, претворенный пластически, выявленный и укрощенный, обезвреженный эллинами, но все же самою своей стихией наш, варварский, наш славянский бог [107].
(Напомним, что Иванов в упоминавшемся труде «Дионис и прадионисийство» установил два источника дионисийства – критский и фракийский (в его понимании – славянский.)
Конечно же, теургическое соборное творчество вело к трагическому финалу – дионисийская мистерия в годы революции стала своего рода оправданием и оформлением страшного разлива анархического бунта. В речи «Скрябин и дух революции», символически произнесенной 24 октября 1917 г., в канун рокового переворота, Иванов настаивал на соприродности обновительной соборной мистерии Скрябина и соборной человеческой катастрофы, которую влечет за собой «страшная песня древнего, родимого хаоса», разливающегося по России [108], на роли композитора в «ускорении разрушительной и возродительной катастрофы мира» [109].
Иной, возбужденно-нервной тональностью проникнута последняя речь Иванова памяти Скрябина в Большом зале Консерватории в апреле 1920 г., и известная только по дефектной стенограмме. Да, говорит Иванов, как то предвидел и того хотел Скрябин, мир вошел в стихию хаоса, «преступил грань». «Действительно ли, – задается вопросом Иванов, – безумие началось за этой роковой чертой, которая была чертою запрета?
Наоборот, за этой чертой оказался не хаос, который только безумен, наоборот, оказалось, что за этой почитавшейся священной и непереходимой чертой лежит новая сфера сознания человека, но уже не как личности, а как соборного типа, как коллектива [110].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
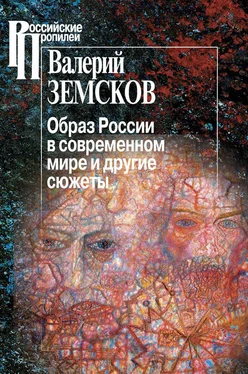
![Евгений Примаков - Россия в современном мире. Прошлое, настоящее, будущее [сборник]](/books/27003/evgenij-primakov-rossiya-v-sovremennom-mire-proshlo-thumb.webp)