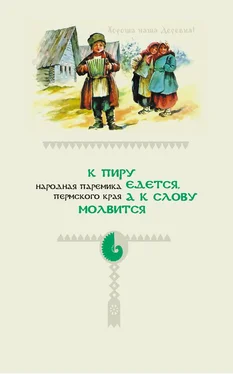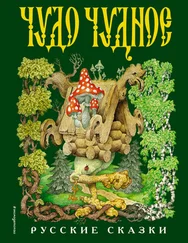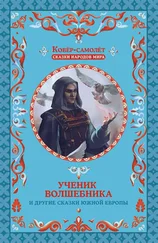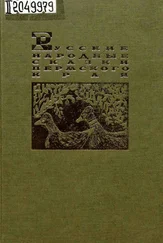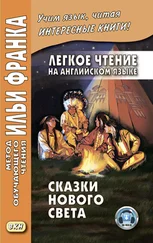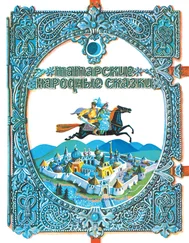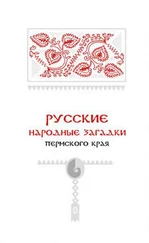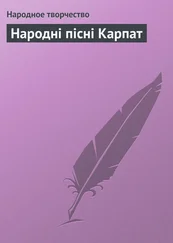Н. Серебренникова, К. Н. Прокошевой, Л. А. Грузберг. Частично в Словарь включены записи пермского краеведа Алексея Пищалкина (в 1869 году им подготовлен рукописный сборник пословиц и поговорок и метких выражений, «употребляемых в простонародии Пермской губернии» [2]). В Словарь также включены паремии из ранее опубликованных фольклорно-этнолингвистических трудов, в издании которых принимали участие авторы-составители. Таких, как «Словарь пермских говоров» в двух томах (Пермь, 2000, 2002), словарь «Русские говоры в Коми-Пермяцком округе» (Пермь, 2006), «Этнолингвистический словарь свадебной терминологии Северного Прикамья» (Пермь, 2004), «Словарь русских говоров Южного Прикамья» вып. 1–3 (Пермь, 2010, 2012), извлечения из монографий «В каждой деревне чё-то да разно» (Пермь, 2007), «Песни и сказы долины камней» (Пермь, 2008), «Русские в Коми-Пермяцком округе» (Пермь, 2008), «Карагайская сторона» (Кудымкар, 2004), «Усольские древности» (Березники, 2004), «Рыболовный словарь Прикамья» (Пермь, 2013), «Охотничий словарь Прикамья» (Пермь, 2014) и другие.
Описание народной паремики в Словаре даётся по тематическим группам. Авторы-составители учитывали сложившуюся традицию тематической подачи материала, предложенной ещё В. И. Далем в известном сборнике «Пословицы русского народа» (в этом издании представлен не один десяток тысяч пословиц, присловий и поговорок). Данный способ упорядочения единиц в классификации материала при всей его приблизительности и неизбежном субъективизме имеет много преимуществ перед алфавитным, ярко демонстрируя народные оценки различных сторон жизни. Для представления пословиц и поговорок выделены разнообразные семантические поля: смерть и жизнь; старость и молодость; богатство и бедность; болезнь и здоровье; горе; родственники и семья; дети; хозяйство; речь; пьянство; отрицательные эмоции. При описании бытовых и обрядовых паремий также выявлялись тематические группы, хотя одновременно был применён и другой принцип подачи материала. Как и в обычных лингвистических словарях, в этом случае использовалось семантическое истолкование паремии, приводилась иллюстрация речевого использования выражения, отмечалось место его фиксации. Подобный подход во многом связан с тем, что бытовые и обрядовые этикетные формулы семантически менее самодостаточны по сравнению с пословицами и поговорками, более жёстко привязаны к ситуации применения.
При словарной обработке авторы-составители стремились сохранить диалектные особенности произношения и написания паремий, отразить отдельные черты фонетики и акцентологии, морфологии и синтаксиса русских говоров Прикамья, лексические диалектные особенности.
Отдельные наиболее сложные для понимания выражения составители сочли необходимым сопроводить комментариями и объяснениями происхождения. В конце разделов помещены также объяснения диалектных и устаревших слов (помещённые в комментариях слова и выражения в тексте Словаря выделены знаком «звёздочка»).
Стилистические пометы
Груб. – грубое
Ирон. – ироническое
Неодобр. – неодобрительное
Совр. – современное
Обрядов. – обрядовое
Шутл. – шутливое
Географические пометы (районы Пермского края)
Александр. – Александровский
Б.-Сосн. – Большесосновский
Бард. – Бардымский
Бер. – Берёзовский
Гайн. – Гайнский
Добр. – Добрянский
Ел. – Еловский
Ильинск. – Ильинский
Караг. – Карагайский
Киш. – Кишертский
Кос. – Косинский
Краснов. – Красновишерский
Кудымк. – Кудымкарский
Куед. – Куединский
Кунг. – Кунгурский
Лысьв. – Лысьвенский
Нытв. – Нытвенский
Окт. – Октябрьский
Орд. – Ординский
Ос. – Осинский
Перм. – Пермский
Сив. – Сивинский
Сол. – Соликамский
Суке. – Суксунский
Уинск. – Уинский
Ус. – Усольский
Чайк. – Чайковский
Част. – Частинский
Черд. – Чердынский
Чернуш. – Чернушинский
Юрл. – Юрлинский
Юсьв. – Юсьвенский
Раздел I
Прикамские пословицы
Пословица образно выражает мудрость, живущую в сознании народа. За крепко сколоченной, небольшой по объёму фразой, обычно представляющей чрезвычайно ёмкий в смысловом отношении текст, стоит обобщение проверенного веками культурного опыта поколений. Выстроена пословица так, что легко воспринимается и сама закрепляется в памяти – она всегда звучна, ритмична, нередко опирается на рифму. Кроме отточенности формы в пословице мы всегда находим выверенное опытом жизненное правило. Она обобщает и тем самым ненавязчиво советует нам, как быть в той или иной ситуации, часто прибегая при этом к ярким, запоминающимся образам. Образное иносказание порой затрудняет быстрое выведение сути суждения: нелёгкая работа по дешифровке становится поэтому нередко напряжённым интеллектуальным актом постижения, что опять-таки приводит к прочному отложению народной сентенции в сознании. Можно, наверное, сказать, что именно пословица первой учит, и учит, советуя, подсказывая, позволяя как бы играть и самостоятельно мыслить. Именно с неё человек начинает овладевать всё более и более сложными формами мышления, пользоваться основными логическими операциями – утверждением, отрицанием, сравнением, отождествлением. При этом мысль не становится сухой – житейская мудрость всегда выражается через конкретные и в то же время типичные, всем понятные ситуации.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу