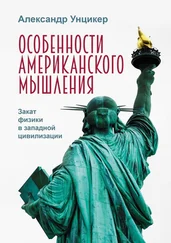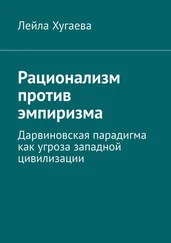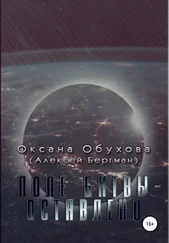Фундаменталистская ярость, которую вызывает у многих сам предмет этого обсуждения, как я и отмечал, не нова. Взгляните хотя бы на этот отчет комментатора эпохи барокко о ссоре по вопросу гармонической теории между Фридрихом Вильгельмом Марпургом и Георгом Андреасом Зорге: “Я часто смеюсь, когда думаю над тем, сколько споров о государствах, городах, товарах, собственности и т. д. ведутся в наши дни их участниками с величайшей сдержанностью и вежливостью, без грубых слов и личных выпадов. С другой стороны, в музыкальном мире одной несчастной квинты или кварты достаточно, чтобы случилась ссора такой силы, что можно подумать, за воротами [собралось] целое войско, собирающееся уничтожить Священную Римскую империю, ибо все участники не останавливаются ни перед чем, чтобы опорочить и унизить их оппонентов. Дикуссия часто ведется в самой резкой манере. Все это не подобает истинному христианину и порядочному человеку… Я больше не читаю таких вещей, потому что меня тошнит от них” (цитируется по докторской диссертации Карла Отто Блейла “Влияние Георга Андреаса Зорге на Давида Танненберга”, изданной в 1969 году). Музыка – обаятельная штука, по крайней мере иногда.
Многие дебаты, по-прежнему ведущиеся вокруг равномерно-темперированного строя, воспроизводят споры между Джозеффо Царлино и Винченцо Галилеем. Вы наверняка помните, что Царлино настаивал на естественности чистых гармоний, образованных простейшими соотношениями, и сравнивал утверждение Галилея, что наш слух привыкнет к модифицированным музыкальным пропорциям, с утверждением, что “плохая, невкусная еда покажется вкусной после того, как ее долгое время будут есть” (эта конкретная аналогия ныне утеряла свою силу: с распространением ресторанов быстрого питания в мире наступило время плохой и невкусной еды).
Сторонники чистого строя, такие как композитор Лу Харрисон, поддержали тезис Царлино. Равномерно темперированные интервалы они называют “поддельными” – а значит, плохими. Тем не менее, как замечает в своей статье “Добавляя ноты: некоторые новые мысли, спустя десять лет после форума «Микротональная музыка сегодня»” (“Перспективы новой музыки”, лето 2001 года) композитор Джулия Вернц, теоретические обоснования такого взгляда зачастую полны ошибок. Вернц, сама использующая равномерно-темперированный строй из семидесяти двух тонов, пишет, что те, кто предпочитает “чистые” интервалы, нередко провозглашают их превосходящими темперированные на основании предполагаемой “чистоты” созвучий, которая доказывается отсутствием улавливаемого диссонанса или “биения” составляющих их звуков. Однако, добавляет она затем, в силу определенных акустических причин некоторые гармонические сочетания (минорная секста и увеличенная кварта) всегда будут давать на выходе биения – вне зависимости от того, чистый выбран строй или равномерно-темперированный (да и даже безотносительно этих конкретных интервалов, незваные диссонансы – непременные атрибуты физического мира, порождаемые несовершенствами любого рода, что и пытался объяснить Винченцо Галилей). Кроме того, пишет Вернц, “наше восприятие консонанса и диссонанса зависит от великого множества дополнительных условий. Во-первых, с точки зрения акустики, наша способность воспринимать низкие обертоны (2–5) в значительной степени неустойчива. Так что регистр – важный фактор… Кроме того, из-за того, что интенсивность тех или иных обертонов варьируется от инструмента к инструменту, тембр также имеет большое значение”.
“Во-вторых – и это еще важнее – контекст оказывает влияние на наше восприятие консонантных и диссонантных интервалов. Сколько времени удерживается звук интервала и с какой стороны мы подходим к составляющим его нотам – это два очевидных фактора. Например, даже в тональной музыке, сыгранной в равномерно-темперированном строе на инструменте с фиксированной настройкой (таком, как фортепиано) интервал от соль-диез до си кажется благозвучным, когда он является частью мажорного или минорного трезвучия. Но он же звучит совершенно иначе, напряженно и даже диссонантно, осмысленный в качестве увеличенной секунды от ля-бемоль до си в рамках до-минор-ной гаммы. Даже открытые идеальные квинты или октавы могут звучать дисгармонично в определенном контексте”. Таким образом, все это куда более сложная история, чем обычно представляется.
С другой стороны, композитор Майкл Харрисон рассматривает биения созвучий чистого строя как желательный элемент – как способ создания музыки, которая “эмансипирует коммы”. И он, и У.А. Матье скажут, что вовсе не отсутствие биений придает силу чистому строю, но тот факт, что мы заведомо “подключены” к этим музыкальным соотношениям – они резонируют с самой нашей природой. Может быть, они и правы. Если так, то изящное обоснование преимуществ равномерно-темперированного строя Жаном-Филиппом Рамо, согласно которому мы не “привыкаем” к модифицированным пропорциям, но наш разум относится к ним как к символам их неизмененных предшественников, поразительным образом бьет точно в цель. Анализ Рамо позволяет нам принять одновременно и эффектность чистого строя, и эффективность равномерной темперации (в книге У.А. Матье “Опыт гармонии” (“Международные внутренние традиции”, 1997 год) автор демонстрирует похожий подход).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
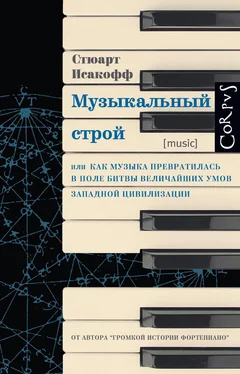
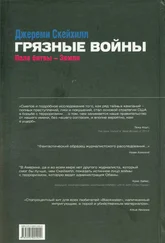



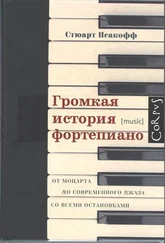

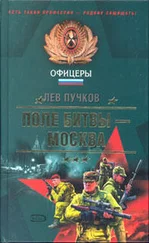
![Рон Хаббард - Поле битвы — Земля [Поле боя — Земля]](/books/339641/ron-habbard-pole-bitvy-zemlya-pole-boya-zemlya-thumb.webp)