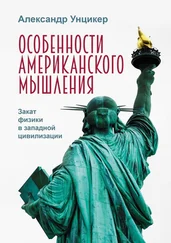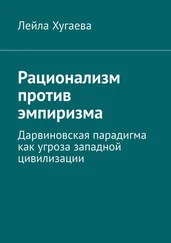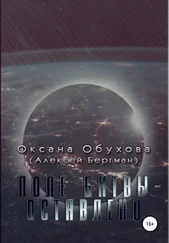И я подумал: а Пифагор-то, пожалуй, в конце концов был прав.
Недавно я снял трубку телефона и с изумлением услышал на другом конце провода голос учителя истории по имени Глен Коулмэн, который только что закончил читать “Музыкальный строй”. Коулмэн умудрился раздобыть мой номер – обычно я не особенно приветствую такого рода звонки, но в этот раз был тронут его энтузиазмом. Как историк и музыкант, он оценил переплетение большого количества самых разнообразных культурных нитей в моей истории. И особенно он благодарил меня за концовку, сказав, что в ней есть “все, о чем мечтает серьезный ученый – ведь поиски не должны прекращаться! ”
Это чувство открытости, незавершенности сюжета и было тем, что я хотел передать. Однако в первые девять месяцев после публикации “Музыкального строя” книга, хоть и заслужила несколько положительных рецензий, в определенных кругах была встречена совсем иначе. По правде сказать, меня удивила резкость некоторых реакций. Порой они пугающе напоминали те ядовитые критические стрелы, которые выпускали друг в друга герои моей книги, особенно жившие в Средние века и эпоху Возрождения – впрочем, это сходство было во многом и забавным.
Отчасти подобные отзывы возникали оттого, что мое повествование – то есть представленные в книге исторические данные – идет вразрез с рядом распространенных мифов о появлении и значении равномерно-темперированного строя. Кроме того, некоторые вопросы, которые я поднимаю, продолжают оставаться предметом научной дискуссии. Книга уязвима и потому, что она написана для массового читателя. Хотя в ней содержится немало оригинальных тезисов – к примеру, я не знаю ни одной работы, в которой прослеживалась бы связь между развитием перспективы в живописи и темперации в музыке или в которой сравнивались бы друг с другом идеи Пифагора, Джордано Бруно и Винченцо Галилея, – текст оформлен в беллетристическом ключе. В нем намеренно опущены некоторые пояснения, которых можно было бы ожидать в работе более академического толка, в нем также нет ссылок (хотя и есть обширная библиография). Если поставить перед собой задачу сделать так, чтобы книга хорошо читалась, поневоле придется пожертвовать некоторыми подробностями в пользу ритма повествования.
Издание “Музыкального строя” в мягкой обложке [58] Послесловие было написано ко второму изданию “Музыкального строя в 2003 году.
дает мне возможность заполнить некоторые пробелы. Для специалистов, а также читателей, которые хотели бы узнать больше о технической подоплеке этой истории, ниже следует более подробный отчет, а также ответ на ряд критических замечаний, которые показались мне ошибочными.
Первый вопрос, на который мне хотелось бы ответить: является ли моя книга пропагандой равномерно-темперированного строя? Ответ – отрицательный. Давайте посмотрим правде в глаза: 99 % выдающихся пианистов (а также их слушателей) во всем мире отдают предпочтение равномерно-темперированному строю, и он попросту не нуждается в пропаганде. Если вам кажется, что я демонстрирую особенный интерес к его истории – и несомненное удовольствие от того, что в конечном счете он восторжествовал, – это связано лишь с тем, что мне показалось любопытным разобраться в том, почему на протяжении стольких веков сама идея равномерной темперации встречала такое ожесточенное сопротивление. Однако, проведя историческую экскурсию по битвам вокруг музыкальных настроек и подытожив ее победой равномерно-темперированного строя, я упомянул и о блистательных результатах, которых композиторы вроде Майкла Харрисона добиваются с помощью новых подходов к неравномерной темперации. По пути я также дал слово комментаторам вроде Иоганна Георга Нейдхардта, которые утверждали, что “равномерно-темперированный строй, словно священный брак, приносит с собой и уют, и неудобство”, а также Исаака Ньютона, который писал, что звучание инструмента в равномерной темперации напоминает грязное, выцветшее полотно. Я указал на непреходящий “магический резонанс” чистых созвучий и описал среднетоновые темперации в положительном ключе, сравнив их с предложениями в дефиниции поэта Роберта Фроста: это звуковые миры, “которые придавали нотам, заключенным в мелодии и созвучия, те или иные формы и краски”. Я упомянул о том, что равномерной темперации очень трудно достичь и что многие продолжали противиться ей даже после того, как это стало возможным.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
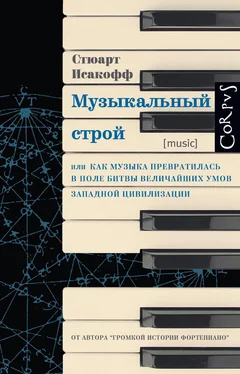
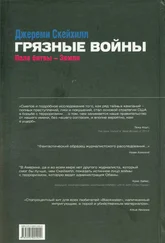



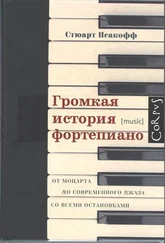

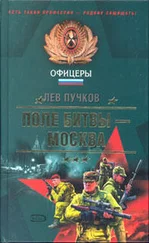
![Рон Хаббард - Поле битвы — Земля [Поле боя — Земля]](/books/339641/ron-habbard-pole-bitvy-zemlya-pole-boya-zemlya-thumb.webp)