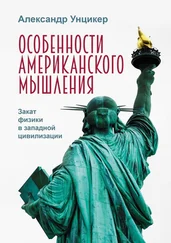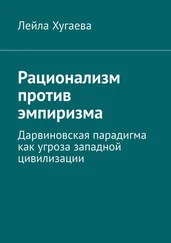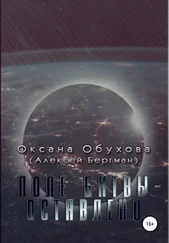Самым же откровенным сторонником равномерной темперации строя в научном мире оказался голландский инженер Симон Стевин, первый, кто за четыре года до Галилея испытал гипотезу Бенедетти о том, что скорость падающего предмета не связана с его весом. Трактат Стевина о музыке перевернул идеи Царлино с ног на голову. Совершенно очевидно, заявлял он, что равномерная темперация – это единственный натуральный строй. Во всех прочих заложено такое количество ошибок, порождающих раздражающие, разрушительные коммы, что лишь дурак может счесть их творениями природы.
Проблема, предполагал Стевин, восходит еще к древним грекам, ошибочно решившим, что 3:2 – это пропорция чистой квинты, тогда как на деле это лишь приблизительное ее значение. Любой, кто “размножит” эту пропорцию и увидит, что “круг” из двенадцати тонов приходит к ноте, которая звучит не в тон с начальной нотой, но при этом будет упорствовать в убеждении, “что соотношение 3:2 и есть истинная пропорция, по правде говоря, будет игнорировать естественные законы сложения и вычитания пропорций”. Такой человек упрямо отрицает простые истины; его позиция нерациональна и абсурдна.
Как же греки допустили такую ошибку? Отчасти, утверждал Стевин, это связано с тем, что они говорили по-гречески! Голландский, по его мнению, был единственным языком, подходящим для научного дискурса. Поэтому ему было намного проще найти истинный строй природы. А сделал он это с помощью простой математической формулы.
Октава образуется соотношением 2:1 и состоит из двенадцати разных звуков. Чтобы найти значение каждого отдельного звука, необходимо всего лишь вывести число, которое, возведенное в двенадцатую степень, даст число 2/1, то есть просто 2. Таким образом, каждая из двенадцати частей, составляющих октаву, может быть выражена математически как корень двенадцатой степени из двух. Это, конечно же, очень сложное число – настолько далекое от простых соотношений Царлино, насколько это вообще возможно. Но, говорил Стевин, те, кто вопреки всем слышимым доказательствам продолжают верить в чистоту простых соотношений, а также сомневаться (как Царлино) в способности сложных математических пропорций равномерно-темперированного строя давать на выходе красивые терции или квинты, похожи на человека, который говорит: “Солнце может ошибаться, а часы нет”. Царлино оставался верен своим часам – он по-прежнему был уверен, что его простые числа в их сверхчастных соотношениях (то есть отношениях, записываемых в форме n + 1/n) обязаны заключать в себе божественный рецепт красоты.
Парадоксальным образом примерно в те же годы в Европе наконец начал разрешаться другой долгоиграющий разлад между солнцем и часами. Юлианский календарь, благодаря ошибкам, закрадывающимся в него на протяжении нескольких столетий, окончательно потерял связь с реальностью: времена года сменяли друг друга на десять дней раньше ожидаемого. Чтобы исправить это решение, было решено “подстроить” часовой механизм. Папа Григорий XIII предложил реформу календаря: из октября 1582 года изымались десять дней, кроме того, в “круглых” годах, номер которых оканчивался на два нуля и не делился на 400, теперь не было 29 февраля. Астрономы, например Кеплер и Браге, приветствовали перемены. Однако доводы здравого смысла в человеческом сознании зачастую имеют куда меньший вес, нежели магия чисел, с которой связано столько надежд, мечтаний и убеждений, – цифры перестают быть просто цифрами и приобретают совершенно иной смысл. Поэтому в целом мир встретил объявление Григория XIII с возмущением и ужасом.
В Бристоле и Франкфурте-на-Майне горожане взбунтовались против попытки Папы лишить их десяти дней. Протестующие объявили ее результатом дьявольских происков (на гербе Григория XIII был изображен дракон, что казалось еще одним свидетельством его злокозненности). Истинный замысел Римского престола, говорили они, состоял в том, чтобы запутать вычисления Судного дня и чтобы тот застал как можно большее количество христиан врасплох. Реформа, таким образом, искажала божественный миропорядок.
Дания, Голландия и протестантские земли Швейцарии и Германии отказались принять новое летоисчисление. Император Рудольф II попробовал установить его светским указом, благоразумно избежав в нем какого-либо упоминания о Папе – но традиции имеют свойство долго отживать свой век. Немецкие города перешли на новый календарь лишь в 1700 году, Англия приняла его в 1752-м, Швеция год спустя, а Россия – и вовсе лишь в 1918 году.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
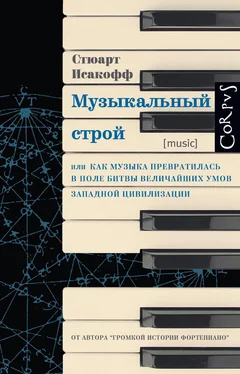
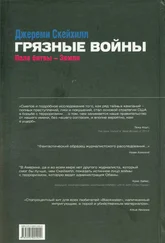



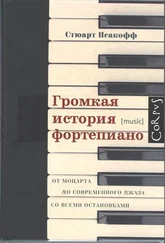

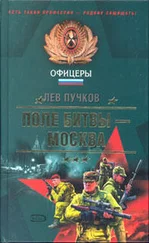
![Рон Хаббард - Поле битвы — Земля [Поле боя — Земля]](/books/339641/ron-habbard-pole-bitvy-zemlya-pole-boya-zemlya-thumb.webp)