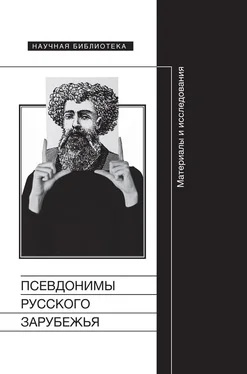Михаил Арнаудов (1878–1978) – крупнейший болгарский ученый-литературовед, этнолог, культуролог, общественный деятель; автор и составитель около ста книг, среди которых выделяются его капитальные труды «Психология литературного творчества» (1931), «Очерки болгарского фольклора» (1934), «Основы литературной науки» (1942), серия книг, посвященных крупнейшим фигурам болгарского национально-культурного Возрождения, и мн. др. [224]
Многообразны были личные и творческие связи Михаила Арнаудова с русской эмигрантской культурой в Болгарии. Следует заметить, что в 1920–1930-е гг. налицо интереснейшее явление – своеобразный «конкубинат» болгарской и русской литературы и культуры. Продуктивность культурного общения , родившуюся в результате состоявшейся встречи , возможно узреть не только в целой серии сознательных культурных жестов , но и в его «оседании» на глубинном уровне, в «культурном бессознательном». Одна из манифестаций этого общения – акт номинации, именования: множество знаковых для болгарской культуры того времени имен были «оглашены» под русским влиянием. Так, например, имя журнала, выходящего бессменно с 1925 по 1943 г. под редакцией Мих. Арнаудова, – «Болгарская мысль», – несомненно, является транспозицией на «болгарский лад» названия влиятельного журнала «Русская мысль», который, как известно, в самом начале 1920-х гг. начал свою вторую жизнь как раз в Софии, где издавался (в 1921–1922 гг.) Российско-болгарским книгоиздательством; с этим авторитетным издательством ученый даже подписал договор на болгарский перевод «Истории второй русской революции» П. Н. Милюкова [225].
Отношения М. Арнаудова с деятелями русской эмиграции были настолько разнообразными, что можно строить их типологию. Во-первых, в его лице русские ученые и писатели узнавали своего друга, к которому они всегда могли обращаться с просьбой о помощи, обеспечении работой и т. д. [226]Во-вторых, в должности редактора «Болгарской мысли» Мих. Арнаудов привлекал в качестве своих сотрудников цвет русской мысли в Болгарии и за ее пределами (например, А. Л. Бема из Праги); так в журнале появляются публикации А. Л. Бема, М. Г. Попруженко, А. М. Федорова, П. М. Бицилли, Г. Ф. Волошина и др., печатавшиеся в оригинале по-русски. В-третьих, личные контакты естественным образом оформлялись в «формализованные» отношения с культурными и творческими объединениями русской эмиграции [227]; яркое свидетельство признания его заслуг – то, что в 1935 г. Союз русских писателей и журналистов избрал его своим почетным членом (среди болгарских ученых и писателей было избрано всего 12 почетных членов) [228]. Ученый поддерживал тесные отношения и с украинскими деятелями и организациями [229], был первым председателем организованного в 1932 г. Украинско-болгарского общества [230]. Близким другом М. Арнаудова был известный украинский скульптор Михайло Паращук [231].
Разговорник «Русский в Болгарии» представляет интерес сразу в нескольких отношениях. Во-первых, это, наверное, единственная из многочисленных публикаций М. Арнаудова за его столетнюю жизнь [232], которая была задумана и реализована в соавторстве, да еще с ученым-иностранцем, который только что вошел в болгарскую культурную действительность, т. е. речь идет о работе, являющейся уникальной по своему генезису . Во-вторых, во всем творчестве Мих. Арнаудова, да и Мих. Попруженко это издание – единственное и по своему жанру : литературоведы здесь преображаются в лингвистов – авторов словарей и разговорников. Опыт ученых в области лексикографии не может быть однозначно выведен из других их занятий и интересов, он не связан с чем-то другим и не находит продолжения в их дальнейшей деятельности. К многообразным определениям двух крупных фигур эти «Русско-болгарские разговоры» как бы добавляют еще то, что в определенный момент ученый должен взять на себя ношу своего рода привилегированного коммуникатора .
Интересна логика построения разговорника. Он как бы прослеживает путь русской эмиграции и словно идет за ней, о чем говорит последовательность названий разделов: «Железная дорога» [233], «В отеле», «На улице» и т. д.; последний раздел – «Некоторые сведения о Болгарии» (С. 14–16). Здесь материал дан как бы в катехизисной форме, т. е. в виде вопросов и ответов, а месседж всего разговорника архилюбопытен: «Многие ли произведения болгарских писателей переведены на русский язык? – К сожалению, очень немногие. Русские мало еще знакомы с творчеством болгарского гения. Нужно надеяться, однако, что они осознают необходимость для себя изучения болгарской литературы» [234]. Кроме своей непосредственной прагматической задачи, у разговорника была и своя «сверхзадача» – вызвать у русских интерес к болгарской литературе и тем самым открыть ей путь к «большому» языку и культуре. Таким образом, восхождение при развертывании разговорника идет не от простого к сложному, а от каждодневного к духовному, от быта к бытию.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу