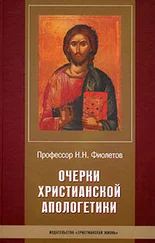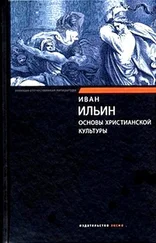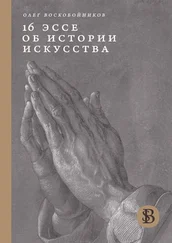В этой книге использованы результаты исследований по проекту «Восток и Запад Европы в Средние века и раннее Новое время: общее историко-культурное пространство, региональное своеобразие и динамика взаимодействия», выполненному в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2011–2013 гг.
Дописав книгу, я успел вкратце познакомиться с недавно вышедшим сборником работ одного из моих первых учителей – Ады Анатольевны Сванидзе (см. библиографию). Многие мои взгляды сформировались под ее влиянием, но содержание книг, к счастью, совпадает лишь отчасти.
Как и все мое поколение, я открывал для себя историю Средних веков по книгам первых поколений «Анналов»: от Блока и Февра до Ле Гоффа и Дюби. Теперь многие из них доступны в русских переводах, но пользоваться знаменитыми обобщающими книгами заслуженных мэтров все же следует с большой осторожностью: перечитывая их сейчас, удивляешься элементарным ошибкам и довольно спорным, даже скороспелым объяснениям, усугубленным непрофессиональными, за редкими исключениями, переводами и общей неряшливостью русских изданий 1990–2000-х гг.
Характерно, что Карсавин в 1918 г. умудрился основать в московском издательстве Г.А. Лемана серию «Библиотека мистиков» и издать свой перевод «Откровений бл. Анджелы из Фолиньо», труд довольно объемный и снабженный подробным введением, заканчивающимся кратким «Sancta Angela, ora pro nobis». Сам этот факт подсказывает, что средневековый мир был для него убежищем от уже не «грядущих», а пришедших «гуннов» и «века-волкодава».
К счастью, я успел обсудить некоторые из этих идей с автором «Категорий» и получил его благословение, поэтому тешу себя надеждой, что мой труд по отношению к ним может стать чем-то типологически схожим с комментариями схоластов XIII в. к «Сентенциям» Петра Ломбардского – достойным продолжением великого дела. Монография Е.В. Мельниковой (228) и недавно вышедшая замечательная книга Андрея Пильгуна (240), уникальная по богатству и репрезентативности иллюстративного материала, снимают необходимость подробного описания средневековых представлений о географии и космосе.
I собор в Никее (325), II собор в Константинополе (381), III собор в Эфесе (431), IV собор в Халкидоне (451), V собор в Константинополе (553), VI собор в Константинополе (680–681), VII собор в Никее (787).
«Феникс», никогда не переводившийся на новые языки, вместе со всеми остальными произведениями Клавдиана недавно переведен Р.Л. Шмараковым, латинистом, в отличие от меня, профессиональным, и я позволил себе предложить собственную версию исключительно для сравнения, поскольку его текст, стилистически ориентирующийся на русскую торжественную оду времен Кантемира, как признается сам переводчик, грешит барочностью и тяжеловесностью, оригиналу не свойственными (хотя ему, несомненно, свойственен высоколобый академизм). Труд Р.Л. Шмаракова, вдумчивый, кропотливый и многолетний, к тому же самый полный в мире (!), наверное, следует отнести к тем русским поэтическим переводам, которые не приближают текст к читателю, а призывают читателя приблизиться к тексту. В моем случае логичнее было пойти первым путем, приблизив текст к читателю.
Несмотря на безнадежную устарелость и тенденциозность этой книги Н.А. Сидоровой, все же написанной по источникам, иногда цитируемым даже на латыни, нельзя не учитывать обстоятельств, в которых она написана, когда «партийность» была неотъемлемой частью сознания многих историков, что не могло не наложиться, если угодно, телеологически на картину прошлого: если в изучаемом контексте партии не было, ее можно (и нужно) было придумать. Не случайно автор начинает книгу с умело и уместно подобранной цитаты из выступления Сталина «Коротко о партийных разногласиях».
Возможно, здесь отсылка к пассажу в начале «Экклезиаста» (1, 15): «Stultorum infinitus est numerus», который в Вульгате сильно отличается от синодального перевода: «Чего нет, того нельзя считать». Я не знаю, на каком именно основании бл. Иероним передал словом stultorum («дураков», «невежд») еврейское heseron , «недостаток», «отсутствие», вполне соответствующее и hystérema Септуагинты.
Отсылка к одному из определений орла, дававшихся бестиариями, которые начали распространяться именно тогда: орел – единственное животное, не боящееся смотреть на солнце, и это первое испытание, которому родители подвергают птенцов, вылетающих из гнезда.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
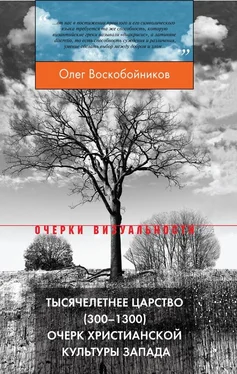
![Олег Климов - Пергамское царство [Проблемы политической истории и государственного устройства]](/books/26101/oleg-klimov-pergamskoe-carstvo-problemy-politiches-thumb.webp)
![Борис Дубин - Очерки по социологии культуры [сборник статей]](/books/34848/boris-dubin-ocherki-po-sociologii-kultury-sbornik-thumb.webp)