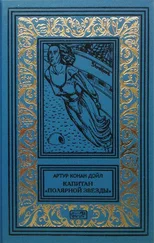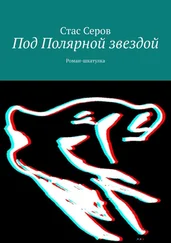Подобно «варягам» и «греки» как общее обозначение Юга должны были получить в XIII–XV вв. иное осмысление. Это было не только пространство Византии, но и представлявшая ее в 1204–1261 гг. Никея, а также возникшая в начале XIII в. Трапезундская империя, и, кроме того, сиропалестинские и египетские земли, входившие в 1250–1517 гг. в состав мамлюкского султаната, и даже больше – вся зона, примыкавшая с Востока к Средиземному морю, то есть то, что обозначалось тогда “Ultramare”, или «Заморье».
I. 2. Структура северного экспорта
Чем располагал Север, что могло бы вызвать интерес традиционно богатого Юга? Прежде всего, редкой пушниной, почти не известной античной цивилизации. Только средневековое общество, во многом, благодаря тем самым «варягам», проложившим путь «в греки», открыло исключительную ценность мехов и придало им способность символически выражать особое благородство, отмечать военную доблесть и вообще принадлежность к той, или иной элитарной группе, разработав этикетные принципы использования мехов в одеяниях, в тогдашней моде вообще, в аристократической эмблематике и геральдике в соответствии с иерархическим положением и родовой, или квазиродовой принадлежностью.
Говоря о Кафе, изумленный испанский путешественник первой половины XV в. отмечал, что в этом городе «встречаются все известные в мире виды мехов и самого лучшего качества» [276].
Высшее место здесь занимал, конечно же, мех соболя , особенно черный, с блестящим отливом, сравнимый по гладкости и нежности с шелком. Столь же высоко превозносился мех песца , «полярной лисицы», отличавшийся белоснежным тоном и еще более редким, голубоватым оттенком. Это был самый дорогой мех, ценившийся порой больше золота. Некоторые шкурки-одинцы с хвостами и лапками, с позолоченными и унизанными жемчугом коготками [277]составляли целое сокровище. Такой мех подобал только коронованным особам и высшим иерархам. Он использовался для украшения ритуальных одежд и торжественных головных уборов, составлял орнамент фамильных щитов и играл особую роль в церемониях как знак благополучия и богатства. Признаваясь природным олицетворением Сатурна, соболий мех занял привилегированное положение в геральдике как обозначение черного цвета [278]. Не случайно, соболь упоминался, как правило, в качестве дара дипломатических миссий, как например, к египетским султанам и турецким эмирам [279], миланскому герцогу и венецианскому дожу [280], римскому папе [281]и другим правителям, и крайне редко встречается в частно-правовых актах горожан [282].
Самое раннее обозначение соболя, если не считать туманного “σατυρ ον” Аристотеля, связанного с «Черным царством» Сатурна, или Кроноса, на Крайнем Севере, встречается в стихах рыцарей-певцов XII в., пораженных роскошью константинопольского двора, пышными одеяниями знати и щитами, украшенными изысканными орнаментами из мехов [283]. Последний прием, определенно, позаимствован у варягов, использовавших отличающиеся по цвету шкуры и меха как различительный признак принадлежности к роду. Под термином “safireon” соболь описан Альбертом Великим († 1280), из-за чего соболий мех часто назывался «сапфировым» [284]. Сам этот термин, на мой взгляд, восходит к этнониму «сабир» и его инозвучаниям – «сапыр», «савир», «сибыр» и другим, которым обозначались родственные уграм древнейшие обитатели Западной Сибири [285]; именно там, в таежной зоне между Северным Уралом, Тавдой и Обью велся промысел на соболя [286]. К тому же региону заставляет обратиться и другой термин, служивший для обозначения соболя, а именно: " zibillino ”; он встречается в документах Кафы [287]и является ни чем иным, как итальянской огласовкой топонима «Сибирь» [288].
Не много уступал соболю и песцу горностаевый мех. Несмотря на почти повсеместное распространение, горностай не стал общедоступным. Он оставался атрибутом принадлежности к высшей знати. Белый мех горностая с характерным черным пучком на хвосте служил традиционным украшением императорских порфир и царственных шляп, окаймлением рукавов и воротов одежд, широко использовался в аллегорике гербов. Ассоциируясь с обладанием сеньориальной властью и внутренним духовным восхождением, равно воспеваемый европейскими трубадурами и арабскими шаирами, мех горностая послужил основой для особой геральдической фигуры – “ermellino” [289]; она имела вид черного креста с шариками на его верхних концах и трехчастным основанием, который узнается на коронах и диадемах, распятиях и даже таро.
Читать дальше
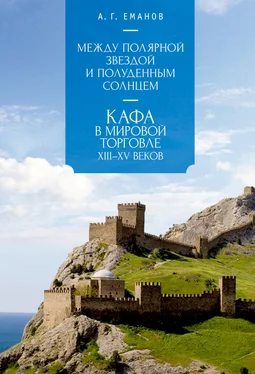



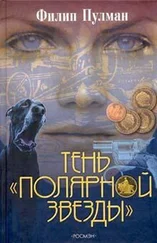

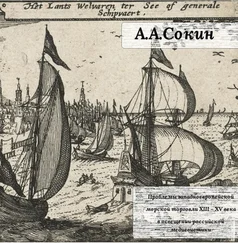
![Александр Руж - Зов Полярной звезды [litres]](/books/386278/aleksandr-ruzh-zov-polyarnoj-zvezdy-litres-thumb.webp)