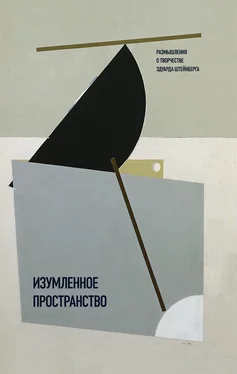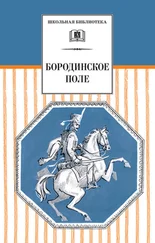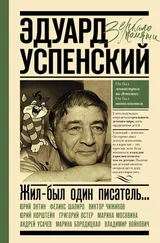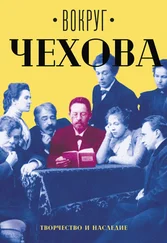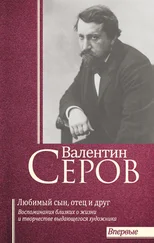Становясь символами единого Текста, святые сохраняют свою неповторимость и своеобразие при всеобщей сообразности «небесному образу». Святые врастают в культуру, являются символами культуры, наиболее адекватными ее припоминателями, ибо входят и делаются причастными Вечной ПАМЯТИ Того, Кто культуру изрек.
Но: припоминание культуры возможно и в иных символах, иной идеографии. Таковое символическое свидетельство останется идеографией, ибо будет зримо являть символы вечных идей как составляющих частей целого, повреждение которых или изъятие будет и повреждением целого. Таковое припоминание культуры, как символо-творчество, как художество (оставив за аскетикой «художество художеств»!), будет иметь свой язык зрительных образов как символов идей, к которым прикасается, в которые входит творческое сознание художника. Напитавшись «вещими снами», прикоснувшись к энергиям дискретных «букв» Вечного Текста, творческое сознание оплотняет, припоминает это свое вхождение в уровни Целого в определенных символах. Художник может не замечать сам того акта припоминания, которое характеризует его мышление в определенных понятиях, зрительно выраженных: он может говорить о «вдохновении», о «трансовости», о «странности» своих творческих состояний, но его творческое сознание-состояние насыщается в «восхищении» (не в аскетическом употреблении термина!), а потом припоминает это свое вещее окормление и оплотняет его в символо-творчестве. «Память есть символо-творчество» – так написал отец Павел Флоренский в «Столпе», а символо-творчество может быть самого различного уровня: язык, этикет, правила поведения и пр. и пр., собственно, действительно кажется, история человеческой культуры может быть описана как история символики. Святой, войдя в Вечную Память, не выходит из нее, но пребывает в ней, постоянно созерцая Свет, постоянно «актуально помня Его»; творческое же сознание-состояние «забывает» и припоминает в символах прикосновение к Единому Тексту Запредельной Мудрости. Свидетельство художника всегда символично, мы просто не хотим этого замечать, как всегда символичен и словесный язык. Идеографический язык художества Эдуарда Аркадьевича Штейнберга заставляет задуматься и принять символичность как открываемое, лежащее в корне миросозерцаний.
Сейчас уместно постараться изъяснить методологические предпосылки, непосредственно связуемые с последующим анализом некоторых картин художника, ибо сказанное выше лишь фиксировало вероятностное со-поминание автором статьи термина «идеография» с пониманием о. Павла Флоренского. Я оценил идеографическое «художество художеств» как символо-творчество святости, как символ Церкви, как причастие Вечной Памяти и максимальному ведению, хотя в цитате, приведенной поначалу, таких слов у Флоренского нет, поэтому привожу его слова из главы «Свет Истины» «Столпа»: «Тернистый путь умного делания венчается блаженством абсолютного ведения».
Методологически оговаривается историчность подхода к анализу картин Э. Штейнберга с точки отсчета идеографического языка. Я надеюсь на вероятностное вмещение истинности суждений о. Павла Флоренского на примере творчества верующего православного художника об идеографическом языке как символо-творчестве в прикосновении к идеям, к красоте, к пониманию художественного творчества как философского, метафизического свидетельства в идеограммах. А не «наоборот»: имея картины, хочу «подстроить» их толкование под идеографический язык как некое новшество. Творчество художника постигается как традиционное, как припоминание традиции древних. Имея исторически засвидетельствованные суждения об идеографическом языке и о понимании эстетики древними, необходимо следовать в описании творческих полотен исходя из этого языка, а не следовать ничего не говорящим «искусствоведческим» понятиям типа «абстракционизм», «формализм» и пр. и пр. Я исхожу из ценности суждений чтимого о. Павла и хочу применить метод «перевода» к имеемому свидетельству художника Штейнберга. Я твердо убежден, что всегда надо бороться с языковой инфляцией, с «пересудами» из антикультуры, чтобы стараться врастать в традицию. Универсальный язык «абстракционистов» как идеограммы с четким набором алфавитных классификаторов мог бы при «переводе» рассказать нам слишком многое, вплоть до того, что и «фигуративная» живопись есть идеографическая!
Ибо «видимый мир с его явлениями и с самим человеком, со структурой его психофизического организма есть экран, на котором отпечатлены символы вечного бытия» (арх. Киприан, «Антропология св. Григория Паламы»).
Читать дальше