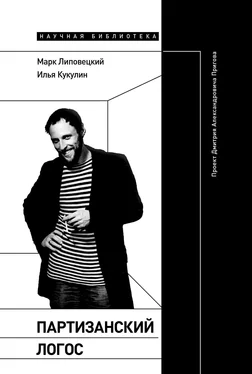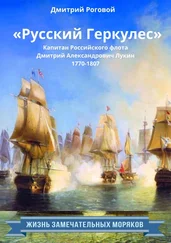Проект состоял, в частности, как бы это выразиться попроще, в создании мультимедийного и панидентичного образа метатворца, автора не отдельных удачных произведений, а универсальной порождающей художественной гиперинстанции. Это было вызывающе, но и знакомо. Так, Пастернак писал, что «плохих и хороших строчек не существует, а есть целые системы мышления, производительные или крутящиеся вхолостую». Пригов как бы доводил эту идею до концептуального предела [Жолковский 2007].
Само собой, новизна приговского поэтического поведения и творчества далеко не у всех вызывала симпатию. Как писал Лев Рубинштейн, еще один видный представитель литературного концептуализма и близкий друг Пригова:
При всей своей известности, социабельности и «внедренности», отношения его с так называемой литературной средой не назовешь простыми. То есть известность его (а для кого-то – одиозность) обеспечивается скорее его поведенческим драйвом, чем текстами. Исходящая из презумпции «настоящей литературы», «крепкой строки» и «подлинного мастерства» литературная публика квазилитературность его сочинений определяет как отсутствие авторского лица, многописание и решительное нежелание отличать «пораженья от победы» как графоманию, публичность как склонность к шутовству [Рубинштейн 1997: 230–231].
Двойственная, внутренне противоречивая роль «нового поэта» и «антипоэта» в одном лице пришлась Пригову впору в силу множества взаимосвязанных факторов. Во-первых, важную роль сыграл культурный сдвиг 1960‐х, плоды которого Пригов пожинал в начале 70‐х – то есть в совсем иной социокультурной атмосфере (подробнее см. Часть II, глава 1). Во-вторых, не менее важным для него оказалось формирование в кругу современных художников, более «продвинутом» тогда в эстетическом отношении по сравнению с литературной средой; ориентация не на публикацию своих произведений, а на их признание в кругу единомышленников – тех же художников или инновативных поэтов, которые лишь в очень небольшой степени ориентировались на нормы русско-советской литературной культуры и сами стремились проблематизировать привычную фигуру автора. Примечательно и то, что Пригова отличает двойная жизнь , вообще свойственная многим представителям андерграунда: «…в общем-то, почти весь андерграунд состоял в Союзе художников, все зарабатывали. Границы были виртуальными. Другое дело, при всей виртуальности была жесткая система отслеживания границы» [Балабанова 2001: 9].
* * *
Повторяющейся ситуацией в биографии Пригова, как ни странно, оказывается состояние отчуждения , часто – даже изоляции. «Я сам из того же карасса, чувствую одинокого человека за километр, но такого глубокого одиночества, кажется, не встречал», – сказал о Пригове его многолетний собеседник, художник и писатель Виктор Пивоваров [Пивоваров 2010: 699].

Ил. 1. С матерью и сестрой
Этим состоянием, несомненно, пронизано послевоенное детство ребенка из московской семьи этнических немцев (мама – пианистка и концертмейстер Татьяна Фридриховна (Александровна) Зейберт, отец – инженер Александр Борисович Пригов (Прайхоф)), тщательно скрывающих свое происхождение. Можно себе представить, что эта тайна означала для маленького Пригова и его сестры-близнеца Марины (ныне живущей в Потсдаме, Германия).
Следующий уровень отчуждения возникает в результате полиомиелита (в свою очередь – последствие энцефалита, перенесенного Приговым во младенчестве). Из-за полиомиелита семилетний Пригов временно парализован и полтора года проводит в больнице, прикованным к постели. Затем следуют многомесячные мучительные упражнения, приведшие к тому, что, несмотря на болезнь, Пригов даже научился успешно играть в футбол. Однако полиомиелит ослабил сердце Пригова: первый инфаркт у него случился в возрасте 42 лет, а последний, третий, убил его в 2007 году.

Ил. 2. Пригов – студент
Дружба с будущим художником и скульптором Борисом Орловым завязалась еще в 1957 году в московском Доме пионеров в переулке Стопани [5] Ныне – переулок Огородная Слобода.
, где они оба занимались в студии скульптуры (об этом Пригов пишет в романе «Живите в Москве» и неоконченном тексте «Тварь неподсудная»). Но она прерывается с окончанием Приговым школы в 1958 году (Орлов был на год младше его), поскольку по принятому тогда закону «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» выпускники должны были перед поступлением в вуз год отработать на производстве. Пригов работает два года на ЗИЛе, становясь токарем. Только со второй попытки он поступает в Московское высшее художественно-промышленное училище (неформально и сегодня называемое по своему старому имени Строгановкой), на факультет монументально-декоративного и прикладного искусства, отделение скульптуры (1960) (ил. 2). Туда же поступает и Орлов.
Читать дальше