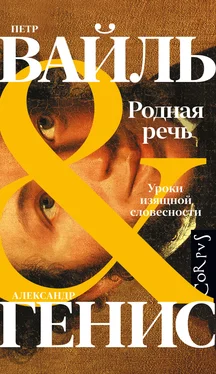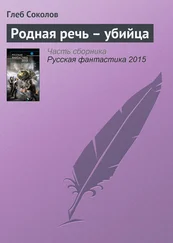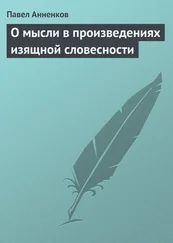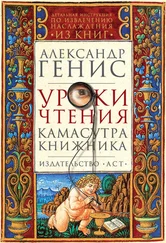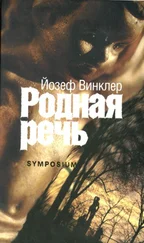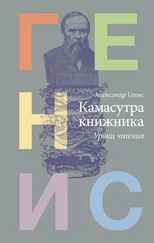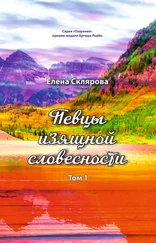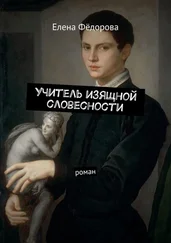1 ...6 7 8 10 11 12 ...18 Радищев родил декабристов, декабристы – Герцена, тот разбудил Ленина, Ленин – Сталина, Сталин – Хрущева, от которого произошел академик Сахаров.
Как ни фантастична эта ветхозаветная преемственность (Авраам родил Исаака), с ней надо считаться. Хотя бы потому, что эта схема жила в сознании не одного поколения критиков.
Жизнь первого русского диссидента крайне поучительна хотя бы потому, что его судьба многократно повторялась в отечественной истории. Радищев был первым русским человеком, осужденным за литературную деятельность. Его “Путешествие” было первой книгой, с которой расправилась светская цензура. И, наверное, Радищев был первым писателем, чью биографию так тесно переплели с творчеством.
Суровый приговор сенатского суда наградил Радищева ореолом мученика. Преследования правительства наградили Радищева славой. Десятилетняя ссылка сделала неприличным обсуждение литературных достоинств его произведений. Так родилась великая путаница: судьба писателя диктует оценку его книг. (Интересно, скажем, знать, что Синявский написал “Прогулки с Пушкиным” в мордовском лагере, но ни улучшить, ни ухудшить его сочинение это обстоятельство не в силах.)
Екатерина даровала Радищеву бессмертие, но что ее толкнуло на этот опрометчивый шаг?
Прежде всего, “Путешествие из Петербурга в Москву” путешествием не является. Радищев разбил книгу на главы, назвав каждую именем городов и деревень, лежащих на соединяющем две столицы тракте.
Кстати, названия эти сами по себе замечательно выразительны – Завидово, Черная Грязь, Выдропуск, Яжелбицы, Хотилов. Не зря Венедикт Ерофеев соблазнился той же топонимической поэзией в своей поэме “Москва – Петушки”.
Перечислением географических точек и ограничиваются собственно дорожные впечатления Радищева. Все остальное – пространный трактат обо всем на свете. Автор собрал в главную книгу все свои рассуждения об окружающей и не окружающей его жизни, он как бы подготовил собрание сочинений в одном томе. Сюда вошли и написанная ранее ода “Вольность”, и риторическое упражнение “Слово о Ломоносове”, и конспекты западных просветителей.
Цементом, скрепляющим это аморфное образование, послужила доминирующая эмоция – негодование, которое и позволило считать книгу обличительной энциклопедией российского общества.
“Тут я задрожал в ярости человечества”, – пишет герой-рассказчик. И дрожь эта не оставляет читателя на всем нелегком пути из Петербурга в Москву сквозь 137 страниц немалого формата.
Принято считать, что Радищев обличал язвы царизма: крепостное право, рекрутскую повинность, народную нищету. На самом деле он негодует по любому поводу.
Вот Радищев ополчился на фундаментальный порок России: “Может ли государство, где две трети граждан лишены гражданского звания и частию мертвы в законе, называться блаженным?!” Но тут же с не меньшим пылом он нападает на обычай чистить зубы: в отличие от испорченных горожан крестьянские девушки “не сдирают каждый день лоску с зубов своих ни щетками, ни порошками”.
Только автор прочел отповедь цензуре, которая “сделалась нянькой рассудка”, как его внимание отвлечено французскими кушаньями, “на отраву изобретенными”. Иногда в запальчивости Радищев пишет нечто уж совсем несуразное. Так, описывая прощание отца с сыном, отправляющимся в столицу на государственную службу, он восклицает: “Не захочется ли тебе сынка твоего лучше удавить, нежели отпустить в службу?”
Обличительный пафос Радищева до странности неразборчив – он равно ненавидит беззаконие и сахароварение.
Универсальность этой “ярости человечества” имела долгую историю в нашей литературе. Гоголь тоже нападал на “причуду” пить чай с сахаром. Толстой не любил медицины. Солоухин с одинаковым усердием призывает спасать иконы и изводить женские брюки. Василий Белов выступает против экологических катастроф и аэробики.
Тотальность радищевской мании правдоискательства ускользнула от читателей. Они предпочли обратить внимание не на анафему венерическим болезням, а на выпады против правительства и крепостничества. Именно так поступила Екатерина.
Политическая программа Радищева, изложенная, по словам Пушкина, “безо всякой связи и порядка”, представляла собой набор общих мест из сочинений философов-просветителей – Руссо, Монтескье, Гельвеция.
Самое пикантное во всем этом, что любой образованный человек в России мог рассуждения о свободе и равенстве прочесть в оригинале – до Французской революции никто ничего в России не запрещал (цензура находилась в ведомстве Академии наук, которая цензурой заниматься не желала).
Читать дальше