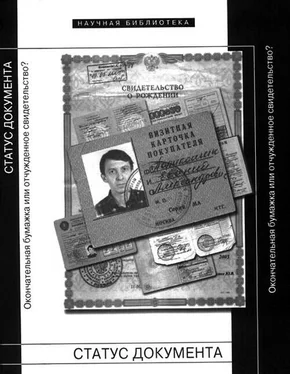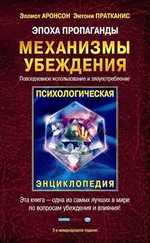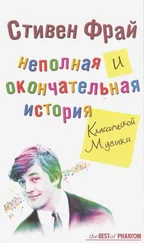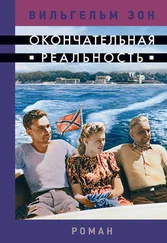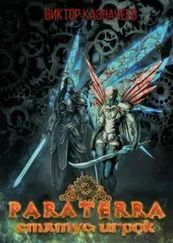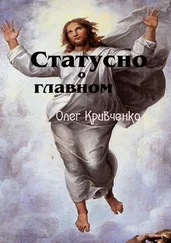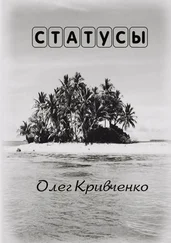Синявский А. Д. Срез материала // Шаламовский сборник / Сост. В. В. Есипов. Вып. 1. Вологда: Полиграфист, 1994. С. 224.
Там же.
Там же. С. 225.
Шаламов В. Т. Собрание сочинений: В 6 т. Т 6: Эссе и заметки; Записные книжки 1954–1979. М.: Терра, 2005. С. 156.
Шаламов В. Т. Несколько моих жизней. М.: Республика, 1996. С. 432.
Schmid U. Nicht-Literatur ohne Moral. Warum Varlam Shalamov nicht gelesen wurde // Osteuropa 2007. № 6. S. 87–105. Цит. по переводу: Шмид У. Не-литература без морали. Почему не читали Варлама Шаламова / Пер. с нем. А. Судакова: http://shalamov.ru/research/61/4.html.
Шмид У. Не-литература без морали.
Шаламов В. Т. Несколько моих жизней. М.: Республика, 1996. С. 430.
Солженицын А. И. С Варламом Шаламовым // Новый мир. 1999. № 4. С. 164.
Шаламов В. Т. <���О моей прозе> // Новый мир. 1989. № 12. С. 59.
Шаламов В. Т. Несколько моих жизней. М.: Республика, 1996. С. 428.
Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа. М: Захаров, 2000. С. 15. Подробнее см.: Михайлик Е. Незамеченная революция // Антропология революции: Сб. статей / Сост. и ред. И. Прохорова, А. Дмитриев, И. Кукулин, М. Майофис. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 178–204.
В одной из теоретических работ Шаламов отождествлял память с кинолентой, записью, где зафиксирован не только сам опыт, но и соотнесенный с этим опытом метаязык — собственно, выступающий уже его естественной, неотделимой частью: «Память — это ленты, где хранятся не только кадры прошлого, все, что копили все человеческие чувства всю жизнь, но и методы, способы съемки» ( Шаламов В. Т. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 6: Эссе и заметки; Записные книжки 1954–1979. М.: Терра, 2005. С. 493–494), — эта кинометафора также очень близка к позиции ЛЕФа и окололефовских художников, полагавших, что материал обладает собственным, присущим ему языком, не зависящим от личных свойств и желаний того, кто берет этот материал в руки. Язык этот можно вычленить, но нельзя придумать.
«Колымские рассказы» здесь и далее цит. по изд.: Шаламов В. Т. Колымские рассказы. М.: Советская Россия, 1992.
Заметим, что Андреев находится в состоянии еще относительно благополучном: он помнит о существовании Парагвая или Боливии.
Бруно Беттельхайм в книге «Информированное сердце», посвященной теории и практике тоталитарного государства и в значительной мере основанной на личном — Бухенвальд и Дахау — опыте автора, замечает, что лишение связи с прошлым и возможности влиять на будущее производило на заключенных, практически независимо от их характера, социального происхождения, вероисповедания или политических убеждений, одинаковое разлагающее воздействие — возвращало личность в «детство». «Доступные удовлетворению потребности принадлежали к числу самых примитивных: еда, сон, отдых. Как и дети, они [заключенные] жили в сиюминутном настоящем; они перестали воспринимать временные последовательности… Они утратили способность к установлению стабильных человеческих отношений» ( Bettelheim В. The Informed Heart: Autonomy in a Mass Age. L.: Paladin, 1970. P. 156).
См., например, об этом: Михайлик Е. Незамеченная революция // Антропология революции: Сб. статей. / Сост. и ред. И. Прохорова, А. Дмитриев, И. Кукулин, М. Майофис. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 178–204.
См., например, работы Л. Юргенсон, в частности: Юргенсон Л. Двойничество в рассказах Шаламова // Семиотика страха: Сб. статей / Сост. Н. Букс и Ф. Конт. М.: Русский институт: Европа, 2005. С. 329–336.
Интересно, что Андреев носит фамилию эсера-боевика, некогда встреченного Шаламовым в Бутырской тюрьме, а Сазонов — фамилию убийцы Плеве (Шаламов писал ее именно так). Если первый маркер мог быть замечен внимательным читателем — эсер Андреев появляется в рассказах «Лучшая похвала», «Ожерелье княгини Гагариной», «Первый чекист», и сложно упустить ту меру уважения, с которой относится к нему рассказчик (андреевское «Вы можете сидеть в тюрьме» он считает лучшей в своей жизни похвалой), то заметить «Сазонова» может разве что человек, знакомый с историей русского революционного движения. Судя по всему, это редкий случай отсылки, сделанной автором скорее для собственного удовольствия, в подтверждение идентичности.
Читать дальше