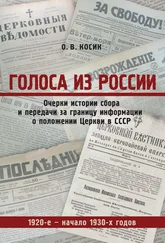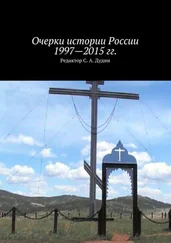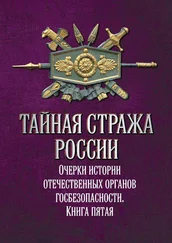Интерпретируемый в социально-полемическом контексте рассказ Достоевского прочитывается его комментаторами безотносительно к образу крокодила. Вероятно, особо глубоких коннотаций в данном случае и впрямь нет. Сам Достоевский вспоминал в «Дневнике писателя», что поводом к написанию рассказа о крокодиле послужило известие о живом крокодиле, демонстрировавшемся в Пассаже за деньги неким немцем [951]. В идейно-типологической ретроспективе крокодил Достоевского не исключает, однако, не только ассоциативных, но и содержательных параллелей, например, может быть уподоблен левиафану — символу Вавилонского царства (Исайи 25: 1) или Левиафану Томаса Гоббса («Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского», 1651) — аллегории государства, чья антропоморфная монструозность спасительна для тех, кто хочет находиться под его защитой, и губительна для тех, кто ему противится. Гоббс определял «великого Левиафана» в начале своего сочинения как «искусственного человека»; изображение такого человека было гравировано и на фронтисписе первого издания гоббсовского трактата: тело его составляют множество человеческих фигурок; в короне, со скипетром и мечом, раскинув руки, он ограждает собою раскинувшийся под ним город-государство [952]. В антропоморфном истолковании библейского левиафана Гоббс не был вполне оригинален, схожие объяснения предлагались и в библеистике его времени [953], но во мнении большинства читателей метафора Гоббса противоречила общераспространенному представлению о левиафане как морс ком чудовище [954]. Ранним примером полемической реинтерпретации гоббсовской метафоры стал трактат епископа Джона Брэмхола ( Bramhall ) под характерным названием «Ловля Левиафана, или Большого кита» (« The Catching of Leviathan or the Great Whale », 1658). Авторизованная Бошаром экзегеза, однозначно отождествлявшая левиафана с крокодилом, еще более осложняла политическую риторику гоббсовского трактата библейско-«зоологическими» аналогиями [955]. В XIX веке изображение Левиафана в образе крокодила появится и на обложках переиздания самого сочинения Гоббса [956].
В известных текстах Достоевского имя Гоббса не упоминается, но содержательные сближения в рассуждениях о природе цивилизационного процесса, функциях государства, коллективных обязанностях и индивидуальных правах говорят о том, что основные идеи «Левиафана» были Достоевскому принципиально не безразличны [957]. Таково, между прочим, рассуждение о якобы со природном человеку эгоизме, не вошедшее в окончательный текст рассказа («Какая гуманность? Всякий живет для себя») [958], перекликающееся с расхожим постулатом Гоббса о «войне всех против всех». Косвенным свидетельством о знакомстве Достоевского с именем левиафана в том значении, в каком оно связывалось с сочинением английского философа, служит планировавшееся им участие в альманахе В. Г. Белинского «Левиафан» [959]. Хлопоты Белинского результата не дали, издание альманаха не состоялось, но, насколько можно судить по концепции нереализованного предприятия, он должен был служить продолжением сборника «Физиология Петербурга» и специализироваться на общественно-политической проблематике, созвучной «гоббсовскому» названию [960].
В истории политической теории «зоологическое» истолкование гоббсовских Левиафана и Бегемота (« Behemoth or the Long Parliament ») доказало известную продуктивность (вопреки предостережениям самого Гоббса об опасности метафор) [961]. Среди самых известных реинтерпретаций гоббсовской метафоры — работа Карла Шмитта «Левиафан в теории государства Гоббса. Смысл и не удача одного политического символа» (1938). Шмитт, вослед Брэмхоллу, поставил Гоббсу в вину дезориентирующее истолкование библейской символики в каббалистическом смысле и использовал образ левиафана и бегемота, чтобы противопоставить морские и сухопутные цивилизации [962]. Идеологические смыслы, вчитываемые в метафоры Гоббса, не имеют, конечно, непосредственного отношения к Достоевскому, но показательны в отношении самих возможностей расширительного истолкования использованного им образа. В русской литературе о таких возможностях напомнит, среди прочих, Максимилиан Волошин, скрестивший Левиафана библейского текста и Левиафана Гоббса в стихотворении, рисующем монструозное творение — всепожирающее государство.
«Он в день седьмой был мною сотворен, —
Сказал Господь, —
Все жизни отправленья
В нем дивно согласованы:
Лишен
Сознания — он весь пищеваренье.
И человечество издревле включено —
В сплетенье жил на древе кровеносном
Его хребта, и движет в нем оно
Великий жернов сердца.
Тусклым, косным
Его ты видишь.
Рдяною рекой
Струится свет, мерцающий в огромных
Чувствилищах.
А глубже, в безднах темных,
Зияет голод вечною тоской.
Чтоб в этих недрах, медленных и злобных,
Любовь и мысль таинственно воззвать,
Я сотворю существ, ему подобных,
И дам им власть друг друга пожирать» [963].
Читать дальше