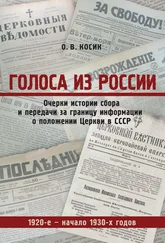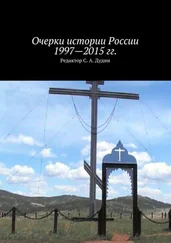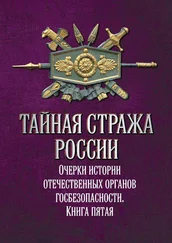Лексико-стилистический разнобой в речевом обиходе петровского времени представляется небезразличным по отношению к процессу идеологической ревизии в традиционной иерархии «слова и дела» — в инициированной царем стратегии трансформировать «общество говорения» в «общество дела». Известны требования Петра к языку переводов, должному, по его мнению, быть по возможности простым и предельно лаконичным [388]. На фоне этих требований идеология петровского правления предстает идеологи ей, не признающей за риторикой самостоятельной ценности. В отличие от Западной Европы, отношение к риторике в России формируется с оглядкой на административные инновации. Рената Лахманн справедливо указывала, что, будучи инструментом создания новой социальной действительности, риторика в России вы ступает в функции идеологического предписания, устава, а не вне- идеологической рекомендации. В отличие от Европы, где риторика регулировала уже существующие речевые практики, импорт риторического знания в Россию подразумевает реорганизацию самой речевой практики и общественно значимого поведения. Риторика привносится извне и соответственно осознается как образец поощряемого властью коммуникативного «украшения»; Лахманн удачно определяет специфику такой риторики как «риторика декора» ( Dekorum-Rhetorik ) [389]. Вместе с тем, будучи внешним атрибутом дискурсивной и поведенческой реорганизации, риторика не допускает своей кодификации «снизу» — со стороны тех, чью речевую и поведенческую практику она призвана реорганизовать. Основание при Петре новых институций, дававших возможность получить риторическое образование, не должно при этом вводить в заблуждение. Оставаясь заимствованным знанием, риторика расценивается как атрибут европейского Просвещения и его властной репрезентации, но, как и многие просветительские проекты в Рос сии, мало что меняет в социальной практике, диссонируя со структурой уже сложившегося культурного и социального опыта.
В отличие от Западной Европы, где развитие риторического образования было давно и прочно связано с университетскими и академическими институциями, автономной наукой, практикой судебного красноречия, профессионализацией литературы, риторическое знание в России воспринимается по преимуществу в контексте церковно-проповеднической деятельности. Характерно, что в Указе 1737 года о детях священнослужителей, откупавшихся от военной службы, говорилось, чтобы желающие из них приготовиться к светской службе учились арифметике с геометрией, а готовившиеся в духовный чин обучались грамматике, риторике и философии [390]. Все сколь-либо значимые имена в истории русской риторики вплоть до середины XVIII века указывают на церковных деятелей. «Спор о вере» XVII века остается доминирующей особенностью и в истории русской риторики начала следующего столетия [391]. Опережая создание литературы как социального института [392], а также юридических механизмов дискуссионно-письменной бюрократии [393], риторика в большей степени связывается с гомилетической традицией и в несравнимо меньшей — с традициями светского красноречия [394].
Двусмысленное положение риторического знания в контексте Петровских реформ ясно выразилось, с одной стороны, в принудительности риторического образования, а с другой — в его институциональной относительности. Ученики Славяно-греко-латинской академии нередко переводятся в другие учебные заведения — в медицинские училища, цифирные, навигацкие, артиллерийские, инженерные школы [395]. Особенно часто правом забирать учащихся из академии пользовался возглавлявший военный госпиталь Николай Бидлоо [396]. Недоучившиеся риторы становятся медиками, корабельными мастерами, военными инженерами. Собственно, и общее число учащихся риторике в России начала XVIII века остается весьма немногочисленным, а сами ученики, судя по документальным свидетельствам, не проявляют особенного рвения к получению риторического образования. Так, например, в открытой в 1709 году греческой школе при Приказе книгопечатного дела, где преподавал Софроний Лихуд, в 1715 году было всего 13 учеников, а 40 значились в бегах. В 1718–1727 годах количество учеников не превышает 35 человек [397]. Общественная репутация риторики далека при этом как от институциональной, так и конфессиональной однозначности. В атмосфере очередных «споров о вере», выразивших активизацию антипротестантской полемики в начале XVIII века, нашумевшим стало дело Дмитрия Тверитинова 1713–1717 годов, начавшееся с ареста студента Славяно-греко-латинской академии Ивана Максимова, «хулившего» иконопочитание и поклонение святым мощам. Согласно доношениям по делу, на диспутах, которые велись Тверетиновым и его оппонентами, особым авторитетом пользовались лица, связанные со Славяно-греко-латинской академией [398]. В 1717–1718 годах Сенат ведет следствие по обвинению в протестантизме за правку молитв в Часослове бывшего префекта Славяно-греко-латинской академии игумена Киево-Печерского Змиевского монастыря Стефана Прибыловича. Стефан отвергал обвинения, изощряясь, по выражению следователей, в «риторстве и казуистике», но был приговорен к ссылке в монастырь под присмотр [399]. Теологическая искушенность в риторике продолжает вызывать подозрение и позже [400]. Светская же востребованность риторического знания фактически ограничивается в годы петровского правления участием учеников Славяно-греко-латинской академии в организации торжественных празднеств, триумфов, фейерверков. Применительно к развитию риторической теории указанная ситуация выразилась, с одной стороны, в экстенсивном развитии панегирического жанра [401], а с другой — в преобладающем интересе к риторической эмблематике [402].
Читать дальше