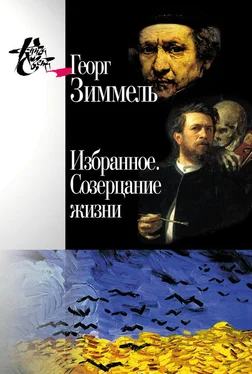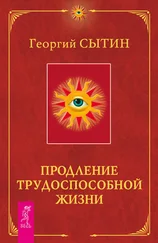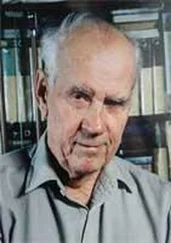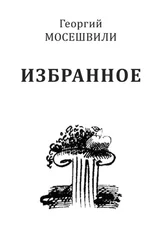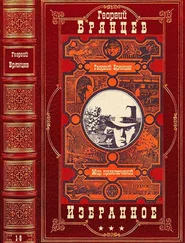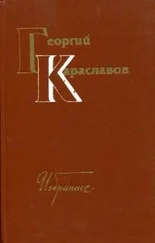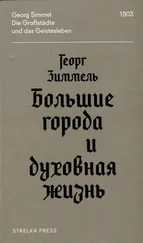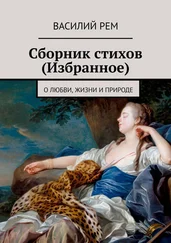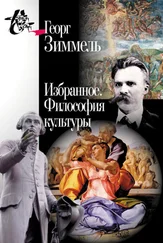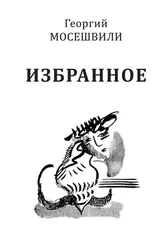В самом начале статьи было отмечено, что в течение 30 лет Зиммель оставался приват-доцентом, а затем экстраординарным, т. е. внештатным профессором Берлинского университета. Он не был принят полноправно в стенах своей alma mater отнюдь не по причине своих скромных успехов в научной и педагогической деятельности. Наоборот, при жизни Зиммель был одним из самых популярных философов и социологов Европы.
Вот несколько фактов. Всего в течение своей жизни Зиммель опубликовал двадцать пять книг (включая брошюры) и почти две сотни статей. Еще пять книг было опубликовано вдовой Зиммеля и его учениками 26. В числе этих трех десятков работы, посвященные теории познания, истории философии, метафизике, этике, эстетике, философии искусства, социологии во множестве ее частных дисциплин (общей социологии, социологии знания, социологии города, искусства, религии и т. д.), искусствознанию, теории литературы, педагогике и т. п.
Не менее впечатляюще выглядит и список курсов, читавшихся Зиммелем сначала в Берлинском, а затем в Страсбургском университетах: логика, история философии, метафизика, этика, философия религии, философия искусства, социальная психология, социология, а в дополнение к этому спецкурсы по Канту, Шопенгауэру и Дарвину 27.
Зиммель был «одним из самых блестящих, если не самым блестящим лектором своего времени» 28. Его лекции привлекали студентов не только философского, но и других факультетов, иностранных гостей, журналистов, людей из мира искусства. По свидетельству современников, аудитория внимала Зиммелю как завороженная. Когда он читал лекцию, «можно было видеть, как мысль завладевает человеком целиком, как худая фигура за кафедрой становится медиумом интеллектуального процесса, со страстью выражающегося не только в словах, но и в жестах, в мимике, телодвижениях. Когда Зиммель стремился передать аудитории суть идеи, он не только формулировал ее, но, так сказать, нес ее в руках, пальцы его сжимались и разжимались, все тело поворачивалось и влеклось за поднятой рукой… В стремительности его речи сказывалось высшее напряжение мысли; он говорил о вещах абстрактных, но его абстрактная мысль побуждена была живыми заботами, а потому она оживала в слушателях» 29.
И вот, несмотря на всеевропейскую известность, на широчайший публичный успех, Зиммель оставался аутсайдером в академических кругах. Причин тому было несколько (некоторые из них уже упоминались выше). Во-первых, Зиммель не желал или не умел занять определенную социально-политическую позицию, идентифицировать себя с какой-либо из влиятельных в его время группировок. Он благожелательно относился к социалистам, публиковался в либеральных журналах, был дружен со Стефаном Георге, вхож в университетскую среду… Любую из позиций он умел точно и тонко проанализировать, обнаружить ее культурные корни и вскрыть содержащиеся в ней противоречия. Но при этом анализ его «ничего не уничтожал, но и никого не защищал: во всем отсутствовал энтузиазм и непосредственное тяготение к определенности» 30.
Впрочем, автор этого высказывания не совсем прав: энтузиазм у Зиммеля присутствовал, но это был энтузиазм аналитика, а не энтузиазм практического деятеля, воплощающего в жизнь излюбленную идею. На любую практическую, а в особенности на политическую деятельность аналитический энтузиазм действует разлагающе. Поэтому, даже заслушиваясь его лекциями, политики неизбежно должны были сторониться его в практической жизни и работе. Поэтому в любом общественно-политическом кругу Зиммель занимал маргинальную позицию, нигде он не был своим, везде – чужаком, посторонним.
Другим фактором, предопределившим неуспех его академической карьеры, была национальность. Зиммель происходил из еврейской семьи, и это фактически лишало его возможности получить профессуру в Берлинском университете. Не помогли даже старания влиятельных друзей, не последним среди которых был Макс Вебер.
Подвергаясь явной дискриминации, Зиммель, однако, не стал еврейским националистом. Более того, в еврейском вопросе, вокруг которого тогда кипели страсти, он вообще не видел вопроса, а в идею создания самостоятельного еврейского государства не верил, полагая, что государство может возникнуть лишь «органически», а не в результате волевого акта нескольких, пусть даже гениальных, личностей.
Не веря в успех сионизма, Зиммель не протестовал и против сионистской идеи. Отвечая на вопрос своего корреспондента о «поглощении» евреев европейскими народами (сам он полагал, что имеет место взаимная ассимиляция и взаимное обогащение культур) и о своем отношении к этому процессу, Зиммель писал: «Рад я этому или нет? Позвольте мне не отвечать определенно на этот вопрос. Может быть, Вам довольно будет девиза Спинозы: пес ridere, пес lacrimare. Если бы евреи, которые столь часто упоминают Спинозу, не забывали его и в данном случае, возможно, не было бы столь острой полемики между сионистами и их противниками» 31. Девиз Спинозы: не смеяться, не плакать, а понимать. Это очень характерная для Зиммеля позиция, побуждавшая его воздерживаться от решения даже жизненно важных вопросов, что неизбежно делало его неудобным человеком для любой целеустремленной компании.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу