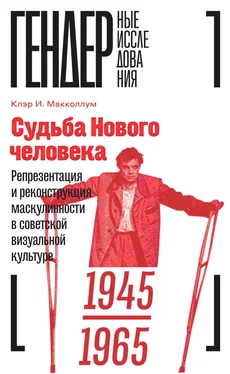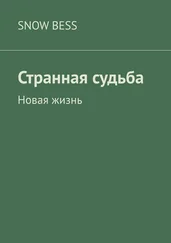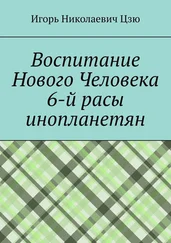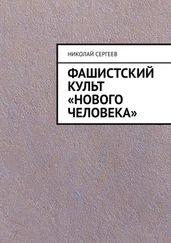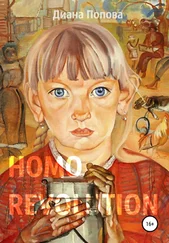Но в конечном итоге какие бы чувства ни пробуждали произведения, такие как работы Решетникова или картина Лактионова «В новую квартиру» (1952), которая более подробно будет рассмотрена ниже, их эмоциональное воздействие жестко ограничено использованием комфортной домашней обстановки. На этих картинах перед нами оказываются не образы разрушенных жизней, неполных семей или отдельных людей, ведущих борьбу за то, чтобы смириться с ужасами, причиненными войной, — напротив, это оптимистичные, ориентированные в будущее сцены счастливой повседневной жизни, разворачивающиеся в пространстве материальной и эмоциональной безопасности. В самом деле, удобный домашний интерьер можно рассматривать как нечто компенсирующее отсутствие биологического отца: подобный антураж позволяет акцентировать патернализм государства как института, предоставляющего новые квартиры, бесплатное образование и занятость. Несмотря на (предположительно) понесенные утраты, семьи на этих картинах по-прежнему способны наслаждаться материальными благами жизни в Советском Союзе. Если принять допущение, впервые выдвинутое Данхэм, что новое осмысление домашнего пространства после аскетизма 1920–1930‐х годов — все эти салфеточки, цветочные пледы и кружевные скатерти послевоенных лет — было частью срежиссированной попытки минимизировать последствия войны как в смысле недовольства людей, так и в части ее физического воздействия [469], то сочетание материального благосостояния и утраты отца также необходимо рассматривать как особо значимый момент. При всей эмоциональной сдержанности подобных деталей не следует упускать главное: хотя в работах профессиональных художников нет признания потерь, понесенных во время войны, они все же оказываются неотъемлемой составляющей повествования в рассмотренных произведениях.
Картины Решетникова и Лактионова показательны и в том смысле, каким образом в послевоенной визуальной культуре совершенно замалчивались причиненные войной разрушения и нехватка жилья. Учитывая, что в результате событий 1941–1945 годов без крыши над головой остались около 25 млн человек, даже несмотря на гигантские послевоенные строительные проекты, реальность, напоминает Линн Эттвуд, «была такова, что тысячам людей… приходилось обитать в любых временных пристанищах, которые они только могли найти» [470]. Более того, новая политика властей предполагала, что наниматель жилья больше не мог прописаться в том или ином месте после отсутствия в течение шести месяцев и невыплаты арендной платы за три, поэтому эвакуированные или выполнявшие важную работу на востоке страны и даже служившие на фронте, возвращаясь домой, зачастую обнаруживали, что их прежние жилища заняты другими людьми, и не имели какого-либо правового основания на компенсацию [471]. Словом, после 1945 года сама идея дома одновременно была и слишком драгоценной, и слишком неопределенной. Эттвуд связывает строительные проекты послевоенного периода и изображения прекрасного дома в женских журналах того времени: «Заинтересованность в строительстве жилья логичным образом вела к интересу к домашней жизни… На типичных фотоснимках в „Советской женщине“, новом глянцевом журнале для женщин послевоенного периода, изображалась семья, „проводящая воскресенье вместе“, уютно расположившаяся за обеденным столом в центре комнаты в окружении предметов домашнего декора» [472]. Если взглянуть на взаимосвязь между войной и домашним пространством сквозь эмоциональную, а не материальную призму, то, вероятно, возникнет более веское объяснение, почему на страницах популярных изданий после 1945 года на фотографиях и на репродукциях картин в таком изобилии появлялись изображения прекрасного семейного дома.
Учитывая масштабные разрушения жилья, произошедшие во время войны, неудивительно, что именно дом стал ключевым элементом в процессе восстановления нормального хода жизни, и общее дело перестройки и перенастройки советской жизни лишь способствовало симбиотическим отношениям между семьей и советским государством: частные и публичные соображения в данном случае вновь совпадали. Однако за рамками идеала уютного дома в произведениях Решетникова, Лактионова и других симптоматичным образом заметно гораздо более масштабное нежелание показывать визуальную связь между утратой и домашним пространством. Этот аспект сохраняется даже в работах, в которых утрата осмысляется как таковая. Однако двусмысленность, с которой мы сталкиваемся на картинах типа «Прибыл на каникулы», не является проблемой. Как было показано в предыдущей главе, сразу же после окончания войны существовало небольшое пространство для визуальной репрезентации скорби, которая чаще всего ассоциировалась с фигурой матери, что можно заметить по таким работам, как «Слава павшим героям» («Реквием») Федора Богородского и «Мать» Всеволода Лишева. Но, несмотря на использование семейных мотивов для выражения эмоций в отношении павшего солдата — гордости, славы, чести и, конечно же, скорби, — за исключением довольно необычной картины Семенова, явная связь между домашним пространством и горем оставшихся в живых полностью отсутствовала. Перемещение скорби в антураж, удаленный от реальности (у Богородского), или изображение поиска тела сына, все еще лежащего на поле боя (у Лишева), охраняли домашнее пространство, позволяя представлять его как место исцеления и некое святилище, далекое как от войны, так и от ее последствий.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу