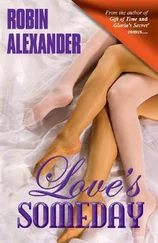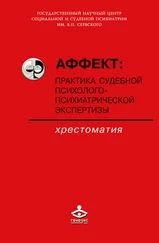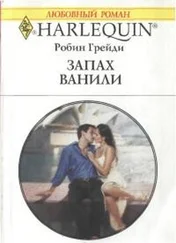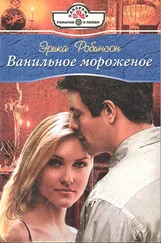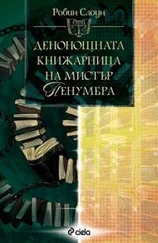Основополагающим приемом перформатизма является двойное фреймирование. В художественной фотографии это означает, что фотограф побуждает нас идентифицировать во вторичной, опосредованной манере то, что он пытается продемонстрировать нам на снимке. Ни для модерниста, ни для постмодерниста это не имеет смысла. Модернисту хочется, чтобы фотография тронула или шокировала напрямую; постмодернист знает, что весь опыт опосредован и что осознание этой опосредованности подрывает либо искажает любые попытки идентификации данного образа. Перформатизм представляет собой синтез двух моделей видения мира (не сводящийся к какой-то одной из них). Он признает, что образы опосредованы, но в то же время понимает, что опосредованность образов еще не делает их хаотичными, мертвыми, ироничными либо лишенными глубины.
В определенном смысле перформатизм обращает ведущий принцип постмодернизма против него самого; там, где постмодернизм целенаправленно порождает хаос и иронию, перформатизм целенаправленно создает порядок и единство. Единственная причина этого поворота, по крайней мере в моем понимании, кроется скорее в самом искусстве, чем в некоем базовом сдвиге глобализированного капитализма, политики или общества в целом. Беспрестанно уступающая, ироничная критика всего и вся имеет свои эстетические пределы и со временем становится столь же утомительной и избитой, как любая другая.
Поворот к единству и порядку создает новые возможности, но вместе с ними и новые проблемы. С одной стороны, он дает творцу шанс еще раз постичь мир в позитивном изобразительном ключе, еще раз выразить нам устремленный ввысь опыт единства, глубины, жизни, порядка, веры и красоты (в пределах двойного фреймирования, которое не дает нам забывать, что этот опыт рукотворен). Подобный положительный опыт представляется основополагающим для любого человеческого общества, любых человеческих начинаний и конечно же исторически предшествует той разновидности неоницшеанского скептицизма, которая воодушевляет постмодернизм. В мире не было ни одного общества, которое не основывалась бы на тех или иных верованиях, и перформатистское искусство подключается непосредственно к вере, причем в недоступной для постмодернистской иронии манере.
С другой стороны, перформатистский поворот поднимает целый ряд этических вопросов, прямо или косвенно связанных с миром глобализированного капитализма, в котором мы живем. Постмодернисты в целом признают, что любое отклонение от их критики соотношения сил приведет в том или ином виде к неоконсервативной, фундаменталистской или же просто уступительной позиции. На данный момент преждевременно говорить о том, как перформатистский подход к миру будет развиваться в этических либо политических терминах. Однако представляется весьма вероятным, что эта этическая проблема будет тесно связана с эстетическими вопросами, демонстрирующими нам новые механизмы взаимодействия с миром вместо постоянного воспроизведения старых схем, сводящихся к его критике. Художники, о которых говорилось в этой главе, не руководствуются напрямую повесткой дня, вместо этого они посредством своего искусства обращаются к этическим и политическим проблемам, которые будут и далее носить безотлагательный характер в глобализированном мире. Сюда относятся борьба с глобализацией (Кисина), с уничтожением окружающей среды (Перри), с вопросами национальной идентичности (Пирогов и Синклер), с проблемами времени и личной идентичности (Тонг), а также с более абстрактными вопросами, касающимися того, как быть собой (Хьюз). Через двойное фреймирование перформатизм устанавливает загадочное, двусмысленное единство, на основе которого и появляется возможность обращаться к данным проблемам.
Последнее замечание касается взаимоотношений между мета-модернизмом и перформатизмом. Перформатизм программно был сформулирован за десять лет до метамодернизма, ему присущи столь же масштабные притязания на объяснение постпостмодернизма в литературе, искусстве, фотографии, архитектуре и теории. Он напоминает метамодернизм, одновременно отличаясь от него, в функциональной концепции двойного фреймирования, равно как и в определении истории. Культурный отход от постмодернизма метамодернизм объясняет в терминах «структуры чувства», возникающей на фоне «диалектических колебаний» между модернизмом и постмодернизмом («метаксис»). Метамодернизм усматривает «романтический поворот» в современных произведениях литературы, искусства, в медийных продуктах и т. д., а заодно и включает радикальную культурную критику политики (более подробно см. во введении к этой книге). В отличие от него перформатизм описывает произведения искусства, литературы, архитектуры и т. п. в терминах специфических приемов и имплицитных норм, регулирующих их использование, не применяя их к политическим или социальным дискурсам, которые явно не имеют никакого отношения к сфере искусства. Таким образом, ключевыми концепциями перформатизма являются «функция» и «двойное фреймирование», но не «структура чувства». Хотя перформатистские работы весьма разнообразны по форме и стилю, все они стремятся скорее к «классической» эстетике порядка, чем к «романтической» эстетике хаоса (фотографы, о которых говорилось выше, явно ближе к первым, нежели ко вторым). Кроме того, описывая исторический отход от постмодернизма, лично я предпочитаю старый добрый гегелевский термин «синтез» для представления «диалектических колебаний» между модернизмом и постмодернизмом. Хотя перформатизм и метамодернизм сходятся в том, что на данном этапе происходит что-то новое, лично мне кажется, что метамодернизм в этом вопросе стремится занять слишком уж выжидательную позицию. Одно из двух: либо мы имеем дело с диалектическим синтезом, который ведет к новой стадии исторического развития, либо со статичными, не имеющими к истории отношения колебаниями, но никак не с «диалектическими колебаниями», которые, вероятно, подходят и для того, и для другого, при этом не являясь ни тем, ни другим (динамика типа «либо и то и другое, либо ничего»). Наконец, перформатизм основывается на функциональном анализе формальных особенностей произведения искусства, а не на аморфной «структуре чувства». Именно поэтому перформатизм избегает использовать такие концепции, как «новая искренность», весьма полезные для описания того, как художники, критики, читатели и зрители воспринимают явления, пришедшие на смену постмодернизму, но совершенно бесполезные для описания самих работ (например, нет абсолютно никакого смысла пытаться установить, «искренни» ли фотографы, о которых говорилось выше, или нет). Вместе с тем эти два подхода не во всем исключают друг друга; в частности, проанализировать, как специфические перформатистские изобразительные либо литературные приемы блокирования иронии создают эффект «новой искренности» в публичном дискурсе было бы, конечно, вполне возможно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу