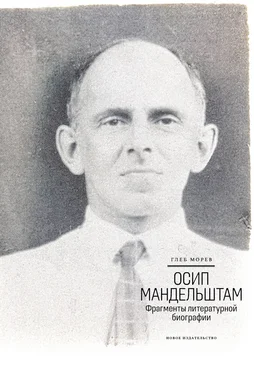На последней странице «юбилейного», отмечающего годовщину принятия постановления «О перестройке литературно-художественных организаций», номера «Литературной газеты» Мандельштам и Клюев оказываются сближены как «аутсайдеры» процесса писательской «перестройки»: «Нужна ли особая бдительность, чтобы распознать [в стихах Мандельштама] обычное враждебное нашей действительности утверждение о гуннах, разрушителях тонкости человеческих переживаний. „Во благовремении” мы слышали это давно уже от… Клюева» (Бескин Ос. Поэзия в журналах // Литературная газета. 1933– 23 апреля. С. 8).
Ахматова А. Листки из дневника. <���О Мандельштаме>. С. 112.
Растерзанные тени. С. 351.
Из стихотворения «Ты красок себе пожелала…» из цикла «Армения» (1930).
Золян С.Т. Подражание как тип текста (об интерпретации двух армянских источников О. Мандельштамом и А. Ахматовой) // Вестник Ереванского государственного университета. Общественные науки. 1986. № 1. С. 233. Там же С.Т. Золян справедливо замечает, что «замена не случайна и слово „ассириец“ наполнено личными для Мандельштама ассоциациями» – восстановить их помогают упоминания об «ассирийских пленниках, копошащихся, как цыплята, под ногами огромного царя», и Ассирии с Вавилоном, способных «раздавить человека», в «Гуманизме и современности». Характерно, что этот фрагмент «Путешествия» был при публикации в журнале «Звезда» запрещен цензурой, и за его публикацию был уволен заведующий критическим отделом журнала Ц.С. Вольпе (см.: НМ. Т. 1. С. 408; в этом месте «Воспоминаний» Н.Я. Мандельштам путает царей Шапуха и Аршака).
Ср.: «<���…> египтяне и египетские строители обращаются с человеческой массой как с материалом, который должен быть доставлен в любом количестве» («Гуманизм и современность»: II: 125).
Лозинский М.Л. Данте Алигьери [1949] ⁄ Подгот. к печати С.М. Лозинского, Е.Б. Белодубровского // Дантовские чтения: 1985. М., 1985* С. 33.
Троцкий Л. Классовая природа советского государства (проблемы Четвертого Интернационала) // Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев). 1933-Октябрь. № 36-37– С. 9.
См.: Хлевнюк О. Указ. соч. С. 167 и след. См. точное замечание Д.М. Сегала: «В сущности, единственным настоящим обвинением политического характера, которое Мандельштам бросил Сталину, было обвинение в государственном терроре („Что ни казнь у него, то малина“)» (Сегал Д. Осип Мандельштам: История и поэтика: В 2 кн. М., 2021. Кн. 2. С. 1006).
В инскрипте 1929 года В. Лутовскому на книге «Стихотворения» («с воинским салютом, ибо поэзия – военное дело» [Летопись. С. 347])-
Subbotin S. Указ. соч. С. 109,125.
Ср. неметафорическое утверждение Н.Я. Мандельштам об антисталинских стихах как о «форме самоубийства» (НМ. Т. 1. С. 238).
Из письма Эйхенбаума Шкловскому от 25 июля 1925 года (цит. по: Чудакова М.О. Указ. соч. С. 435).
Ср. свидетельство вдовы Г.А. Шенгели Н.Л. Манухиной: «Нина Леонтьевна рассказала, как не раз, бывая у них, Мандельштам читал эпиграмму на Сталина какому-нибудь новому знакомому. Уводил его на „черную“ лестницу и там читал. Манухина просила: „Ося, не надо!“. Но удержать его было невозможно» (Мандельштамовские материалы в архиве М. Талова ⁄ Публ. М. Таловой при участии А. Чулковой, предисл. и коммент. Л. Видгофа // Вопросы литературы. 2007. № 6. С. 337).
См. воспоминания об этом Э.Г. Герштейн, позволяющие установить указанный временной промежуток: Герштейн. С. 49-5О. В описании Герштейн принципиальна синхронность осуществляемых Мандельштамом действий – он одновременно ищет способ встретить и ударить Толстого и читает «почти „направо и налево“» антисталинские стихи (Там же. С. 53).
Тагер Е.М. О Мандельштаме ⁄ Подгот. текста и коммент. М.Н. Тагер, Б.Г. Венуса // Звезда. 1991. № 1. С. 159.
НМ. Т. 1. С. 239. Ср. об инвективе как о «выходе из двойственности» «между приятием и неприятием социума» (Тоддес Е. Антисталинское стихотворение Мандельштама (К 60-летию текста) // Тоддес. С. 414).
Е.Я. Хазин, брат Н.Я. Мандельштам, в 1967 году рассказывал В.М. Борисову: «Когда Осип приехал в Москву и рассказал [о пощечине Толстому], я никак не мог в это поверить, но это было» (Лето 1967 года в Верее: Н.Я. Мандельштам в дневниковых записях Вадима Борисова. С. 494). О немедленном желании ставших свидетелями пощечины Толстому писателей возбудить уголовное дело против Мандельштама и «как можно строже засудить» его см. в воспоминаниях Е.М. Тагер (Тагер Е.М. Указ. соч. С. 159). В коллективном письме Толстому от президиума ленинградского Оргкомитета ССП 27 апреля 1934 года поступок Мандельштама квалифицировался как «истерическая выходка человека, в котором до сих пор живы традиции худшей части дореволюционной писательской среды» (К биографии Мандельштама ⁄ Публ. И. Флаттерова [А.И. Добкина] // Память: Исторический сборник. М., 1977 ⁄ Paris, 1979. Вып. 2. С. 433). Последствия написания и чтения критических стихов о Сталине с начала 1930-х годов также были ясны литераторам: так, например, в ответ на предложение И.И. Макарова написать «поэму о раскулачивании, о сталинской беспощадности и о гибели невинных крестьян» и назвать ее «Иосиф Неистовый» Павел Васильев ответил: «Ты в ГПУ не сидел» (Блудов Ю. Ненаписанный роман: Памяти Ивана Макарова. 1900-1937 // Современное есениноведение. 2007. № 7. С. 175). Летом 1936 года тот же Васильев отказался читать (по просьбе Ю.К. Олеши) в писательской компании свою эпиграмму на Сталина 1931 года «Ныне, о Муза, воспой Джугашвили, сукина сына…» (Растерзанные тени. С. 277).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу