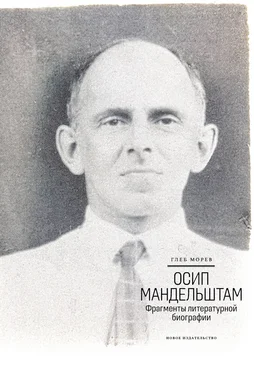Я пил из лютни жемчуговой
Пригоршней, сапожком бухарским,
И вот судьею пролетарским
Казним за нежность, тайну, слово,
За морок горенки в глазах, —
Орланом – иволга в кустах.
Не сдамся! <���…>
В соответствии с этими настроениями в июне 1933 года Клюев предлагает цикл «О чем шумят седые кедры» «Издательству писателей в Ленинграде» в составе подготовленного им сборника из тридцати трех текстов – то есть не приходится говорить о какой-либо угрожавшей автору, с точки зрения Клюева, «крамольности» этих стихов до лета 1933 года [339].
От момента ссоры с Гронским до ареста Клюева прошло от года до полутора, поэтому прямую связь между ней и высылкой поэта установить трудно. Весной 1933 года номенклатурное положение Гронского осложнилось – после разногласий с Горьким [340]и недовольства Сталина Гронский лишился руководящего положения в Оргкомитете по подготовке писательского съезда. Ситуация, в которой он в феврале 1934 года по телефону дает указания Ягоде и согласовывает со Сталиным арест писателя, выглядит нереалистичной [341]. Косвенным подтверждением этого служат слова из воспоминаний самого Гронского, относящиеся к эпизоду с арестом другого поэта – Павла Васильева. Рассказывая о встрече с В.М. Молотовым, на которой тот узнал от Гронского, что Васильев в тюрьме, Гронский пишет:
Молотов тогда резко упрекнул меня в том, что я сразу же не вмешался в это дело и не поломал гнусное предприятие с арестом и осуждением Васильева. На мое замечание о том, что я уже не являюсь руководителем Оргкомитета Союза советских писателей и поэтому не имею возможности вмешиваться в такие дела, Вячеслав Михайлович ответил мне:
– Вам достаточно было позвонить мне или Сталину <���…> [342]
Арест Васильева, о котором идет речь, относится к 1935 году. Однако свою работу в Оргкомитете Гронский оставил фактически в мае 1933 года, поэтому объемы его номенклатурных полномочий в 1934-м, когда был выслан Клюев, и в 1935 годах совпадали.
Роль Павла Васильева в истории конфликта Клюева с Гронским принципиальна. Действия Гронского по отношению к Клюеву по своей природе реактивны, представляя собой ответ едва ли не главного в этот период партийного эмиссара в литературе на публично – в стихах «Клеветникам искусства» (текст которых Гронский получил в августе 1932 года) – ив литературном быту заявленную Клюевым «патронажную» по отношению к «безмерно много обещавшему» [343]советскому поэту, ярко дебютировавшему на столичной сцене и только что «помилованному» властями за талант [344], позицию («На ржанье сосунка-кентавра ⁄ Я осетром раскинул жабры» [345]). Однако Гронский сам претендовал на роль «патрона» Васильева, быстро ставшего лично близким Гронскому человеком (он женился на сестре его жены и одно время жил в его доме). Отношение Гронского к Клюеву определено не столько (несомненной) гомофобией, сколько вполне резонными опасениями за направление, в котором будет развиваться поэзия Васильева. Неслучайно тема беспокойства за то, что «отторгнутый» РАППом молодой Васильев попадет под влияние сомнительного с точки зрения лояльности власти Клюева, доминирует в воспоминаниях Гронского о знакомстве с Васильевым летом 1932 года [346]. Именно с целью окончательно и публично разрушить творческий союз Васильева с «крестьянской поэзией» и Клюевым как ее признанным лидером Гронский устраивает в апреле 1933 года вечер и обсуждение стихов Васильева в «Новом мире», где под градом политически мотивированных обвинений, адресованных Клюеву и (присутствующему здесь же) Клычкову, фактически вынуждает Васильева отречься от них с помощью той же риторики, которую через год использует против Ахматовой Городецкий [347].
Таким образом, версия с арестом Клюева по инициативе Гронского представляется маловероятной и вписывается, скорее, в общую «компенсаторную» стратегию воспоминаний вернувшегося в 1954 году из шестнадцатилетнего заключения бывшего главного редактора «Известий и «Нового мира», направленную на повышение своего номенклатурного статуса и преувеличение своей роли в культурной политике после 1933 года [348]. Дополнительным доводом в пользу того, что реакция Гронского не могла привести к роковым для Клюева последствиям, служит упоминание о гомосексуальности Клюева как о первопричине репрессий против него.
Известно, что, придя к власти, большевики декриминализировали гомосексуальные отношения, исключив статью за мужеложество из Уголовного кодекса 1922 года и оставив эту ситуацию без изменения в кодексе 1926 года [349]. В 1932 году отказ Гронского печатать посвященную мужчине лирику Клюева был банальным проявлением традиционной «бытовой» гомофобии, не имевшей серьезной политической поддержки [350]и уголовных перспектив. Однако общественная ситуация, в которой Клюев считал возможным предлагать к печати свою гомосексуальную поэзию, резко меняется во второй половине 1933 года.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу