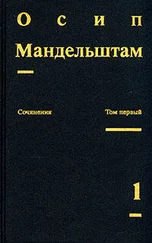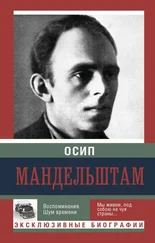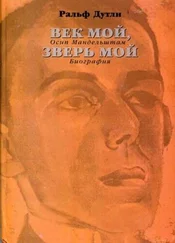К моменту написания письма Шкловскому и особенно к концу 1925 года, когда покончил жизнь самоубийством Есенин, Эйхенбаум пессимистичен – смерть Есенина воспринимается им как поступок, биографический «ответ» на социальные обстоятельства, тогда же описанные в дневнике Эйхенбаума с помощью автополемической формулы (отсылающей к названию статьи в «Русском современнике») – «Нет литературы и никому она не нужна» [294].
В посвященных самоубийству Есенина и его «литературной личности» устных выступлениях [295]Эйхенбаум с предельно возможной в советских цензурных условиях откровенностью вслед за Шкловским описывает положение русской литературы через отрицание ее «полноценности», прежде всего, моральной:
Современная русская литература, – говорил Эйхенбаум 10 января 1927 года на вечере памяти Есенина в Ленинграде, – почти целиком – явление не столько литературное, сколько литературно-бытовое. В центре нашей сегодняшней литературной жизни стоят вопросы не столько литературного порядка, сколько порядка общественного и морального – таков, по крайней мере, характер и наших литературных группировок, и нашей литературной борьбы. До самой литературы нам еще далеко – мы заняты сейчас примитивным делом организации литературного труда, упорядочения литературных отношений: повышением не столько качества продукции, сколько морального авторитета того, что называется литературой. Ведь за последние годы она пала именно морально – став отчасти особым и далеко не почетным видом службы по ведомству Наркомпроса, отчасти – обслуживанием рынка по заказу издателей. Напрасно говорят о литературной «профессии» и называют ее в некотором смысле «свободной» – писатель сейчас не профессионал и не свободный художник, а чернорабочий, ищущий себе места в жизни [296].
У нас нет свидетельств какой-либо синхронной реакции Мандельштама на это, казалось бы, прямо касающееся его [297]выступление Эйхенбаума. Е.А. Тоддес справедливо отмечает, что в этот период в своей попытке «синтеза элементов „старого” и „нового” мира» Мандельштам был «радикальнее ОПОЯЗа», который «стремился сохранить дистанцию» [298]с советской современностью. Однако позднее – ив период «Четвертой прозы», когда поэт ощущает себя «чернорабочим слова», и особенно к кризисному 1933 году – настроения, так ярко проявившиеся в выступлениях и записях формалистов второй половины 1920-х годов, всецело овладевают Мандельштамом, предъявляющим тот же – моральный – счет и литературной, и политической системе.
…Я гневаюсь на вас, гнусавые вороны,
Что ни свирель ручья, ни сосен перезвоны,
Ни молодость в кудрях, как речка в купыре,
Вас не баюкают в багряном октябре,
Когда кленовый лист лохмотьями огня
Летит с лесистых, скал, кимвалами звеня,
И ветер-конь в дождливом чепраке
Взлетает на утес, вздыбиться налегке,
Под молнии зурну копытом выбить пламя
И вновь низринуться, чтобы клектать с орлами
Иль ржать над пропастью потоком пенногривым.
Я отвращаюсь вас, что вы не так красивы!
Что знамя гордое, где плещется заря,
От песен застите крылом нетопыря,
Крапивой полуслов, бурьяном междометий,
Не чуя пиршества столетий,
Как бороды моей певучую грозу —
Базальтовый обвал – художника слезу
О лилии с полей Иерихона!
Я содрогаюсь вас, убогие вороны,
Что серы вы, в стихе не лирохвосты,
Бумажные размножили погосты
И вывели ежей, улиток, саранчу!..
За будни львом на вас рычу
И за мои нежданные седины
Отмщаю тягой лебединой! <���…>
Эти стихи Клюева, названные (с «националистической» пушкинской проекцией) «Клеветникам искусства», по воспоминаниям Ахматовой, Мандельштам читал ей наизусть во время их встречи в Ленинграде в конце февраля 1933 года [299]. Текст мог возникнуть в разговоре по ассоциации: Ахматова и Мандельштам говорили, как мы помним, о Данте – Клюев же упоминает Данте во фрагменте «Клеветников» с описанием Ахматовой («Ахматова – жасминный куст, ⁄ Обожженный асфальтом серым, ⁄ Тропу утратила ль к пещерам, ⁄ Где Данте шел и воздух густ»). Однако можно предположить, что повод для обращения к стихам Клюева со стороны Мандельштама был основательнее, нежели просто лестное упоминание его визави на встрече в Фонтанном Доме.
Позднейшие мемуарные записи Ахматовой, в которых это стихотворение Клюева названо «причиной гибели несчастного Николая Алексеевича» [300], задали ошибочную традицию восприятия этого текста, как одного из спровоцировавших арест поэта в 1934 году [301]. Между тем очевидно, что стихотворение Клюева «Клеветникам искусства» является документом того изменения политико-культурной ситуации, которое последовало за постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» 1932 года, ликвидировавшим РАПП и объявившим «объединительный» курс на создание «единого союза советских писателей» [302]. Пафос Клюева направлен здесь против тех отстраненных постановлением ЦК от руководства культурной политикой партийных критиков, чья непримиримость по отношению к «попутнической» литературе все эти годы («десять лет» – то есть приблизительно с 1922 года) мешала («застила крылом нетопыря») подлинной поэзии («песням», персонифицируемым у Клюева им самим, Сергеем Клычковым, Ахматовой и Павлом Васильевым) объединиться с советской действительностью («республикой желанной»), чьим недвусмысленным символом выступает в тексте красный флаг («знамя гордое, где плещется заря»). Именно в качестве манифеста нового этапа «перестройки» литературы эти стихи были предложены Клюевым в августе 1932 года к публикации в журнале «Новый мир» [303]и публично прочитаны им в ноябре на авторском вечере Васильева в Московском клубе художников [304].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу