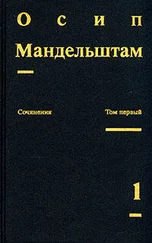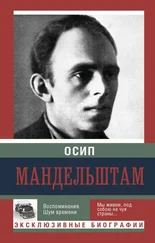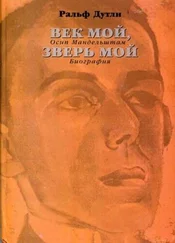Первые публичные констатации факта отсутствия в СССР литературы как традиционной социальной институции относятся к середине 1920-х годов и связываются с коренным изменением условий ее общественного бытования после революции. Наиболее откровенно «иносказательный» смысл этого утверждения был раскрыт в 1926 году в подцензурной прессе – в публикации выступления В.Б. Шкловского в московском Доме печати в прениях по докладу К.Б. Радека «Больные вопросы советской печати». Адресуясь к властям, Шкловский – в непосредственном диалоге с заместителем главного редактора «Известий» (и в будущем руководителем Главлита) Б.М. Волиным [286]– прямо говорил о губительности политики репрессий и идеологического заказа:
Нужно знать пределы запрещения, иначе писатели перестанут писать и уйдут на другие профессии. Вы заказали товар, который нельзя сделать нашими инструментами. Мастеровые находятся в отчаянии, поэтому они пьют. Наши писатели того товара, который вы заказываете, сделать не могут, и поэтому литературы в данный момент нет.
Тов. Волин: Каких же заказов вы хотите?
Тов. Шкловский: Конечно, не денежных, а чтобы вы научились понимать литературу. Нельзя предлагать человеку описывать благополучие, когда его нет. Один писатель сказал – разрешите нам самим знать наши развязки. Разрешите нам самим играть на нашем инструменте так, как мы умеем. <���…> вы не умеете обращаться с писателем. Но без литературы, товарищи, все-таки жить нельзя. <���…> Научитесь обращаться с писателями [287].
Выступление Шкловского, судя по стенограмме, вызвало скандал [288]. Большую часть своего заключительного слова Радек посвятил отповеди Шкловскому, идя на провокационное, но не искажающее мысль оппонента обострение его тезисов:
<���…> я понимаю его [Шкловского] постановку вопроса – нет прессы без свободы печати. <���…> Но, товарищи, мы свободу печати принесли в жертву на известное время интересам освобождения человечества. <���…> Есть другое обстоятельство. Уберите цензоров-дураков. Конечно, дорогой товарищ, такое требование не является крамольным, призывающим к ниспровержению существующего строя, попыткой потрясти основы. Но, во-первых, мнение о том, кто дурак, всегда очень различно, и не всегда тот дурак, который не пропустит даже очень хорошо написанной книги. Есть такие книги, которые очень хорошо написаны. Чем цензор будет умнее, тем больше он не пропустит. <���…> Но когда вы выступаете с требованием общей свободы печати, то я понимаю, что в вас говорит либерал. Вам нужно писать. Если вы будете оперировать моим личным чувством симпатии к вам для понимания вашей трагедии, вы найдете полный отклик во мне. Но поймите, что мы существуем для революции, а не революция для нас. И если писатель находится в таком настроении, если у него такое сложение ума, что он как-то не созвучен, то его не хотят печатать. Это – трагедия, но это ваша личная трагедия, а не общественная. Вы скажете, что таких широких общественных слоев много. Да, мы, интеллигенция, имели один товар – выражать свои мысли в письме. Это была наша общественная функция. Но эта функция должна была в процессе революции уложиться в известные рамки [289].
Тема биографического и творческого тупика, определенного, пользуясь выражением Радека, «известными рамками», поставленными «в процессе революции» (так или иначе ранее принятой корреспондентами), обсуждалась за несколько месяцев до выступления Шкловского в его переписке с соратником по ОПОЯЗу Б.М. Эйхенбаумом. 25 июля 1925 года Эйхенбаум писал Шкловскому:
У меня тоска по поступкам, тоска по биографии. Я читаю теперь «Былое и думы» Герцена – у меня то состояние, в котором он написал главу «Il pianto» <���…>. Никому сейчас не нужна не только история литературы и не только теория, но и сама «современная литература». Сейчас нужна только личность. Нужно человека, который строил бы свою жизнь. Если слово, то – слово страшной иронии, как Гейне, или страшного гнева [290].
Как уже было отмечено М.О. Чудаковой, упоминаемая Эйхенбаумом глава из книги Герцена посвящена разочарованию в последствиях европейских революций 1848-1849 годов («Неотразимая волна грязи залила все», – пишет Герцен) [291]. Еще год назад, в первом номере «Русского современника» (выступление на московской презентации которого так круто изменило положение Ахматовой), Эйхенбаум поместил статью, которая «оптимистически» называлась «В ожидании литературы». В ней он объяснял сложившуюся ситуацию («литература у нас кое-какая есть, но ее не читают» [292]), с одной стороны, коренным изменением социальной структуры традиционной читательской аудитории – «русской интеллигенции <���…> верного читателя и поклонника» русской литературы. «Этого читателя больше нет, потому что нет самой интеллигенции – по крайней мере в старом смысле этого слова» (иначе, говоря словами Мандельштама, сохраненными осведомителем, «нет общества»). С другой стороны, утверждал Эйхенбаум, литературу уничтожает новая (партийная) критика, «которая не рассуждает, а произносит приговоры». Эту критику он именует «политической» и, анализируя тексты ее основных представителей (в том числе Троцкого), чаемое появление литературы связывает с тем, что словесность найдет «какое-то другое место в жизни – скамья подсудимых для нее не подходит» [293]. Критическая рецепция «Русского современника» в советской прессе и судьба журнала, закрытого на четвертом номере после ареста А.Н. Тихонова, одного из его соредакторов, продемонстрировали иллюзорность этих надежд.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу