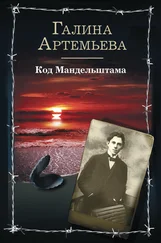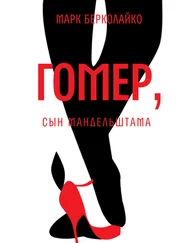В самом мотиве вознесения и общения с небожителями есть, конечно, некая игра со смертью, и Моисей, как я уже говорил, был вознесен на «обзорную точку» перед кончиной, но все‐таки речь не о смерти, иначе вряд ли бы Мандельштам с такой радостью в сердце ожидал этого «вознесения» («Неужели я увижу завтра – /Слева сердце бьется, слава, бейся!»). Нет, он чувствовал и мыслил иначе. В самой «Канцоне» смерти как бы и нет вовсе. И нет стремления выйти из времени (из времени можно выйти только в безвременье, от него он как раз и бежал, или хотел убежать), а наоборот, алчба приобщиться к его истоку‐потоку, к истории «наших предков, такой, какой нам Бог ее дал» 291. И его «вознесение» есть выход на такую высоту, с которой видны все пространства и времена, и откуда можно увидеть Землю Обетованную, и царя Давида, и весь родовой вертоград, великую цепь бытия 292.
В третьей строфе, что начинается с собирания «высших сил» в единый центр: «То Зевес», появляется и сказание о бинокле, подаренном Зевесу царем Давидом. Тут, повторюсь, выходит на первый план один из главных мотивов «Канцоны»: преображение пространственного зрения в прозорливое видение времен 293. В этом суть дара еврейского царя‐псалмопевца зоркому языческому богу. Но этот дар нужен и самому поэту («Я люблю военные бинокли»), ведь это он на русской равнине отклонился к язычеству, к геометрии, перестал слышать время (оно «онемело», «оглохло»), это он свою бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил, время свое заморозил. Именно в надежде обрести свое время, провидеть судьбу 294, он должен, хотя бы мысленно покинуть край гипербореев, голубую оставить Русь 295, и сказать на языке Библии начальнику евреев, царю Давиду, или самому Господу: «села», что значит «верую вечно» – клятву, что повторяется в конце ветхозаветных псалмов, авторство коих молва приписывает царю – родоначальнику будущего Спасителя.
Псалмы эти издревле канонизированы и исполнялись в Храме во время богослужений. Рядом с текстом псалмов существуют разнообразные предписания, как и в современной нотной грамоте, с указанием как их исполнять: только пение, или пение с музыкальным сопровождением, указания на вид мелодии: хвалебный гимн или плач и другие. Смысл некоторых предписаний утерян. В начале некоторых псалмов есть обращение חַ ּצֵ ַנמְ לַ ( ла‐менацеах ). В современном иврите оно означает: «дирижеру», и большинство исследователей сходятся на том, что это обращение к начальнику хора, именно так его перевели на русский («начальнику хора») в синодальной Библии. Учитывая общий контекст с «псалмопевцем» и клятвой «села», у меня нет сомнений в том, что «начальником евреев» Мандельштам называет именно «начальника хора», его дирижера. Кто здесь имеется в виду в библейских указаниях – это другой вопрос (в Псалмах указано: «Начальнику хора. Сынов Кореевых» 296), но Мандельштам вкладывает в метафору дирижирования очень важный для него смысл, стоит его рассмотреть.
«Мир», «музыка», «поэзия», «дирижер» связаны поэтом в один метафорический узел. Мир – оркестр, играющий музыку мировых событий, дирижер, он же поэт, – исполнитель этой музыки, тот, кто связывает, «интегрирует» (Мандельштам называет дирижерскую палочку интегралом) отдельные звуки, задает общий ритм. Музыка в этом контексте – это звучащая, говорящая, поющая «материя» мира, «кремня и воздуха язык», «ученичество миров», «черновик учеников воды проточной», а «кремнистый путь из старой песни» 297– это ведь путь поющих горных пород («в земной коре юродствуют породы, и как руда из груди рвется стон» 298). «Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг свинцовой палочкой молочной». «Свинцовая палочка» это и палочка дирижера, и «горящий мел для твердой записи мгновенной» 299. По Мандельштаму поэт создает поэтическую материю, как Господь земные породы и всю материю мира, его плетение словес подобно творчеству Вседержителя 300. Един и их творческий метод, Мандельштам называет его «орудийностью». Это означает, что как Бог творит мир в каждый миг заново, то есть в каждый миг дороги мира разлетаются в разные стороны, а тот, единственный путь, надо выбрать, такова и работа поэта, и природа словообразования. Здесь не «законы» действуют, а воля исполнителя. «Поэтическая материя… постигается лишь через исполнительство, лишь через дирижерский полет», сказано в «Разговоре о Данте» 301, а Данте назван «величайшим хозяином и распорядителем этой материи, величайшим дирижером европейского искусства». Творчество не следование законам, не исполнение приказа 302, а свобода воли.
Читать дальше
![Наум Вайман Преображения Мандельштама [litres] обложка книги](/books/429967/naum-vajman-preobrazheniya-mandelshtama-litres-cover.webp)