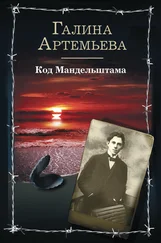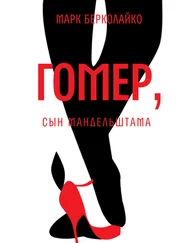(26 мая 1931)
О люди, не могущие проникнуть в смысл этой канцоны, не отвергайте ее; но обратите внимание на ее красоту…
Данте, «Пир»
Канцона – песня, гимн, хвала. Данте в своих «Пирах» (наверняка известных Мандельштаму), разбирая собственные канцоны, толкует: «В первой части я возвеличиваю эту благородную даму в целом, прославляя как душу ее, так и тело; во второй я перехожу отдельно к восхвалению ее души; в третьей – тела» 186. Ранее разъяснялось, что «дама», предмет любви поэта, – Мадонна Философия, и обитает она на небесах, а конкретно – на третьем «небе Венеры» из девяти вращающихся вокруг Земли 187. Данте поет хвалу и «ангелам», вращающим небеса, называя их «интеллектами», или сознаниями 188. Также и Псалмопевец (царь Давид), очень важный персонаж мандельштамовской канцоны, возводил, как известно, хвалу Господу. Приведу, как пример, фрагмент из восьмого Псалма: «Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес!» В зачине «Канцоны» Мандельштама – радостное ожидание подъема в горные (горние) выси и встречи с их обитателями.
Данте писал свой «Пир» в первые годы изгнания. Порою изгнание, особенно для могучих натур, – начало новых путей, подъема, лестница в небо, надежда на вознесение и преображение. Такой надеждой на «перемену участи» стала поездка Мандельштама в Армению («Вожделенное путешествие в Армению, о котором я не переставал мечтать» 189), и действительно, после мучительного пятилетнего перерыва, вернулись стихи и зазвучал новый голос.
Исследователи дружно связывают «Канцону» с путешествием в Армению в 1930 году 190. Само путешествие было для Мандельштама сменой вех, великим переломом. Он устремился в другое пространство, чтобы погрузиться в другое время. А я, эмигрант, переместившись в другое географическое пространство, разве не обрел, как и мечтал, иную историю? «История с географией». Кстати, «География» – черновое название стихотворения…
Мандельштам, познакомившись в Армении с Кузиным (на ловца и зверь бежит), увлекся эволюционными теориями, приуготовляя появление «Канцоны», «Ламарка» и «Восьмистиший». При переходе из бездны пространства в пучину времени иногда ломаются орудия (средства) такого перехода. «Ламарк выплакал глаза в лупу. Его слепота равна глухоте Бетховена…» 191Но даже и тогда, когда теряется возможность видеть, остается возможность прозревать или слышать время, как глухой Бетховен музыку. Время звучит в нас, как окликающий голос.
Древность Армении, ее народа, языка и культуры увлекала поэта возможностью выбраться из русской равнины в «вавилоны» кривых улочек Закавказья, где «на требе истории хриплой звучат голоса за горой», то есть за Араратом, а чуть дальше – «ландшафт мечты» 192, где библейские корни дают теперь живые побеги…
Я хочу познать свою кость, свою лаву, свое гробовое дно [как под ним заиграет и магнием и фосфором жизнь, как мне улыбнется она: членистокрылая, пенящаяся, жужжащая] 193.
Впервые 194Мандельштам упоминает Армению в 1922 г. в статье «Кое‐что о грузинском искусстве», где, правда, отмечается, что не Армения, а Грузия стала для русской поэзии «обетованной страной». Для русской поэзии – может быть, но для Мандельштама «обетованной страной» явилась Армения.
Поездка стала преображением. Вернулись стихи, и началось отчуждение от России. Так в «Путешествии в Армению» неожиданно появляется глава «Москва». Для чего, если не для сравнения? («Я сравниваю – значит, я живу, – мог бы сказать Дант… ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть – сравнение» 195.) И сколько едкости, неприятия и даже презрения в его упоминаниях о Московии!
Рядом со мной проживали суровые семьи трудящихся. Бог отказал этим людям в приветливости, которая все-таки украшает жизнь. Они угрюмо сцепились в страстно-потребительскую ассоциацию, обрывали причитающиеся им дни по стригущей талонной системе и улыбались, как будто произносили слово «повидло». …Казалось, эти люди с славянски пресными и жестокими лицами ели и спали в фотографической молельне. И я благодарил свое рождение за то, что я лишь случайный гость Замоскворечья и в нем не проведу лучших своих лет. Нигде и никогда я не чувствовал с такой силой арбузную пустоту России; кирпичный колорит москворецких закатов, цвет плиточного чая приводил мне на память красную пыль Араратской долины. Мне хотелось поскорее вернуться туда, где черепа людей одинаково прекрасны и в гробу, и в труде. Кругом были не дай бог какие веселенькие домики с низкими душонками и трусливо поставленными окнами. Всего лишь семьдесят лет тому назад здесь продавали крепостных девок, обученных шитью и мережке, смирных и понятливых 196.
Читать дальше
![Наум Вайман Преображения Мандельштама [litres] обложка книги](/books/429967/naum-vajman-preobrazheniya-mandelshtama-litres-cover.webp)