Русской литературе повезло как никакой другой. Дима Бобышев меня как-то об этом спрашивал, и мы с ним поспорили. Аксенов когда-то сказал, что трагедия русской эмиграции (как и любой эмиграции, не только русской) заключается в том, что это всегда творчество только одного поколения [96]. Бобышев понял, что речь идет исключительно о творческой стороне дела. То есть вторая эмиграция – это следующее поколение первой эмиграции. Третья эмиграция – это следующее поколение второй эмиграции. Но Аксенов говорил о биологическом, или генетическом, если угодно, процессе. Дети первой эмиграции, рожденные за рубежом, уже ничего не выдают. Говоря о второй эмиграции, можно назвать Лилю Матвееву, дочь Елагина. Она написала полтора десятка стихов и неплохо переводила своего отца, но все-таки назвать ее поэтом трудно. Она не написала достаточного количества стихов. То же самое происходит с детьми третьей эмиграции. Они, может быть, говорят по-русски. Может быть, они растут в русских общинах, таких как Брайтон-Бич или наш филадельфийский Норд-Ист. И может быть, это сообщество продержится долго, но даст ли оно какие-то литературные ростки? Аксенов говорил именно об этом.
Волны эмиграции очень помогли друг другу. Когда появилась вторая эмиграция, первая уже выдыхалась и физически, и творчески. Вторая эмиграция влила живую кровь в том смысле, что она дала читателя и возродила энергию творчества у первой эмиграции. Третья эмиграция сделала то же самое по отношению к остаткам второй эмиграции: все-таки она ее подбодрила. Например, хорошие стихи начал писать Моршен, когда появился Миша Крепс. Они там вместе хохмили, увлекались игрой слов и так далее. Так вот, Миша Крепс, сам очень хороший поэт, Моршена как бы всколыхнул, и тот снова начал много и хорошо писать. Возьмем теперь альманах «Перекрестки», то есть мои «Встречи». Да их бы и не было даже, если бы туда не влилась третья эмиграция, потому что вторая эмиграция к тому времени уже вся выдохлась. В этом смысле нам повезло.
Вот о чем говорил Аксенов: что дети, то есть второе поколение каждой эмиграции, рождающееся в новой стране, если что-то и пишут, то уже на другом языке. И об этом мы немного поспорили с Димой Бобышевым. Обо мне один раз написали: «Само явление Валентины Синкевич опровергает утверждение Аксенова» [97]. Будто я и есть второе поколение первой эмиграции, и если из меня что-то получилось, то я и есть живое опровержение. Но я ведь не второе поколение первой эмиграции, а самая настоящая вторая эмиграция. Второе поколение – это дети, которые от них родились. Тут Аксенов прав, потому что я, по крайней мере, не вижу никаких особых литературных достижений среди детей второй эмиграции, равно как и среди детей третьей.
Почему это происходит? Может быть, дело в самом факте перемещения? Не рождается ли творческий импульс уже от самой перемены мест? Может быть, Аксенов говорил об этом?
Нет, я думаю, Аксенов говорил о поколении в биологическом смысле (это его выражение). По крайней мере, так это я понимаю. Ведь мы, литераторы, работаем со словом, а здесь мы живем в иностранной языковой среде. Есть исключение – Набоков. Но что это за исключение? Он терпеть не мог, когда его сравнивали с Джозефом Конрадом. Он говорил: «Конрад ни одного произведения не написал на своем родном польском языке, а я должен был убить в себе Владимира Сирина, чтобы стать Владимиром Набоковым» [98]. Вот вам и все исключение. Хотя, конечно, Набоков – это исключение все равно. Набоков – это младшее поколение первой эмиграции. Мы с Сергеем Голлербахом – поколение второй эмиграции. Старшее поколение нашей эмиграции – это Филиппов, Ржевский, Анстей, Елагин. А мы – младшее. Ржевский родился в 1905 году, Анстей – в 1912 году. А мы – уже в 1920-х. Я попала за рубеж в неполных 16 лет, так что я младшее поколение второй эмиграции. Но все равно я вторая эмиграция. А вот моя дочка уже и по-русски еле-еле говорит. Понимает, но говорит с трудом.
А те, кто приехал, условно говоря, после 1991 года, так называемая четвертая волна, как вы считаете, это поколение можно называть эмиграцией? Или нужно искать какой-то другой термин?
Все равно это эмиграция. И уж если на то пошло, то в наименьшей степени эмиграция – это как раз наша вторая, потому что мы как бы невозвращенцы. А когда кто-нибудь из второй эмиграции называет себя изгнанником, то я вообще смеюсь, потому что нас никто не изгонял. Сталин очень даже хотел вернуть нас, а не изгнать. Хотел наказать нас как следует. Так что после 1991 года – это все равно эмигранты. Уже по той лишь причине, что люди хотят лучше жить. Так чем это не причина для эмиграции? Настоящих изгнанников не очень много. Все это эмиграция, а каковы ее причины – другое дело. Как я попала на Запад? Можно ли сказать, что это была эмиграция? Как вы думаете? Я попала в Германию отнюдь не по своей воле. Эмиграция это или нет, я уже и сама не знаю.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
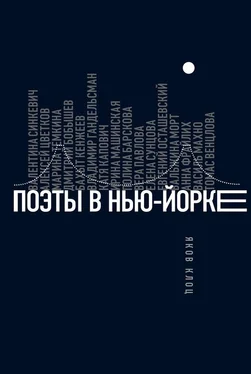
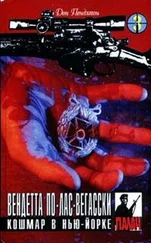






![О Генри - Алиса в Нью-Йорке [= Эльза в Нью-Йорке] [Elsie in New York]](/books/405329/o-genri-alisa-v-nyu-jorke-elza-v-nyu-thumb.webp)


