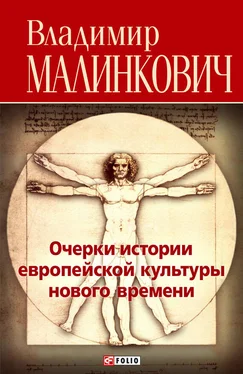Оспаривать наличие культурного кризиса вряд ли имеет смысл, лучше подумать о его причинах. В Средние века все научные и культурные процессы в Европе определялись догматами христианской веры в их толковании католической церковью. Автономными от веры и церкви, да и то лишь относительно, были в конце Средневековья только политика и экономика. Новое время как раз и началось с того, что автономной от церкви площадки добились для себя наука и искусство. Позже автономию получило и образование. Уже в Ренессанс острой критике подвергся институт церкви, в эпоху Просвещения – вся христианская догматика. Церковь перестала быть безусловным авторитетом.
Думаю, Карл Ясперс был недалек от истины, полагая, что основная причина кризиса культуры – падение доверия людей к авторитетам и структурам, не выдержавшим испытания временем. И произошло это в немалой степени благодаря успехам цивилизации. Чем больше человек знает, тем больше у него сомнений в том, что ему навязывают авторитеты, тем активнее он стремится до всего дойти своим умом. Если человек талантлив, его самостоятельный поиск может быть весьма продуктивным, и именно таким людям мы в первую очередь обязаны теми научными открытиями, которые радикально изменили мир. Обычно такие люди стремились уйти от проблем духовных и нравственных (поскольку те не имели убедительного рационального обоснования и поддерживались, главным образом, силой авторитета) и концентрировали свое внимание на естественных науках и технике. Прежде они часто исповедовали деизм, позже агностицизм, а то и вовсе были атеистами. В результате наука отделилась не только от теологии, но и от гуманитарной культуры, и мы уже давно привыкли говорить: наука и культура.
Со временем культура, отделившаяся и от религии, и от науки, превратилась в чисто гуманитарную культуру , а потом и вовсе стала терять почву под ногами. Заодно и авторитет. В этом нет ничего удивительного: трудно формировать мир духовных идеалов в отрыве от религии, а систему ценностей земного мира – в отрыве от естественных и социально-экономических наук. Сфера культуры стала расплываться, терять четкость своих внешних очертаний и ориентиров, что не могло не привести к ее кризису.
Следствием утраты доверия человека к общепризнанным авторитетам, к религии и общечеловеческим ценностям явилось широкое распространение морального релятивизма и просто цинизма. По-видимому, верно оценил ситуацию в современной европейской культуре, где господствует философский постмодернизм, немецкий социолог Детлев Клаусен: «Духовная жизнь сводится к использованию вырванных из исторического контекста цитат; необязательность становится жизненным принципом; истина меняется до неузнаваемости, оказываясь относительной; индивидуализация объявляется высшей целью, замаскированной под догмы экономического неолиберализма… И все это – реакция на секуляризацию».
Есть ли выход из этой довольно печальной ситуации? Чехов такого выхода не видел совсем. Гоголь надеялся на возрождение России как кладезя святости. Толстой призывал к переоценке христианских ценностей. Художники-декаденты пытались уйти из мира реального в мир воображения, но очень скоро убедились, что воображаемый мир не может существовать в отрыве от действительности.
Попытка увести искусство в мир иной была, ко всему прочему, своеобразной формой протеста против тогдашнего состояния искусства Нового времени. В центре внимания художников был в ту пору мир вполне земных страстей человека, а не его духовные запросы. Умело играя эмоциями своих героев, талантливый писатель, драматург или хороший актер могли вызвать у читателя-зрителя довольно сильное эмоциональное возбуждение. Но таким образом они добивались не аристотелева катарсиса, а лишь его имитации. Сопереживание читателя и зрителя в подобных случаях было лишь чувственным, почти физиологическим, и вызвать душевное очищение оно, конечно же, не могло. Лучшие образцы искусства такого рода могли иметь большой и продолжительный успеху публики, но со временем обречены были стать в один ряд с чисто развлекательной художественной продукцией. Естественно, что писатели-моралисты (среди них Толстой, Достоевский и, в своих устремлениях, Гоголь) были противниками искусства, не настроенного на высокий нравственный идеал.
Но как поверить в идеал, пришедший к нам из запредельного мира, если Бог «сотворил нас смертными» и с таким миром нас мало что связывает? Ведь в загробную жизнь сейчас никто по-настоящему не верит, и свидетельство тому – страшный страх перед смертью, который религиозные люди испытывают ничуть не меньше, чем атеисты. Анри Бергсон, как мы знаем, полагал, что связать человека с духовным миром может искусство, способное порождать новые сверхчувственные эмоции. Такая эмоция, по Бергсону, может родиться только в душе поэта, но способных ее сотворить поэтов, увы, совсем немного (возможно, к их числу принадлежал Андрей Тарковский). Кто-то считает, что ради возрождения духовности нужно слепо довериться церкви и попробовать безо всякой критики принять религиозные догмы. Отдельным людям это, вероятно, может помочь, но вернуть духовную ауру всему миру подобным образом, конечно, нельзя. Невозможно, полагал Карл Ясперс, «вернуться от сознания к бессознательности». Будучи человеком верующим, он, тем не менее, предостерегал людей от стремления «насильственно верить, разрушив сознание».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу