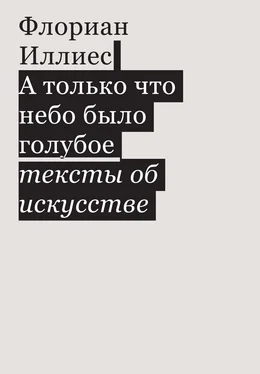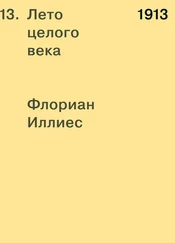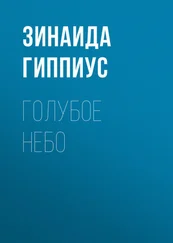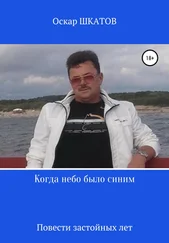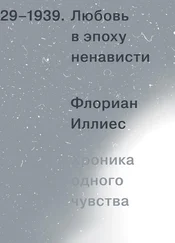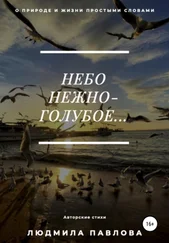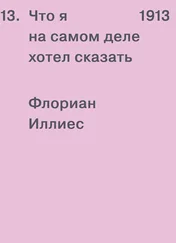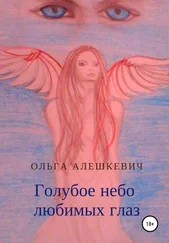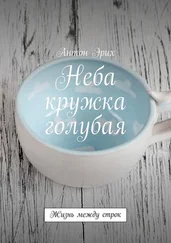Третий жанр – «геологический». Интересно, что тему, интересовавшую Гаккерта, подхватил в первую очередь Франц Людвиг Катель в своих этюдах с натуры. В акварели с кратером 1834 года художник придает этой теме особый оттенок – он пишет теневую сторону вулкана, лишенную всякой миловидности, это скудный, холодный ландшафт, который особенно сильно впечатляет на контрасте с его жанровыми картинами, написанными в тот же период. Не всякому туристу удавалось преодолеть это личное впечатление от Везувия. Например, видный представитель немецкого романтизма Людвиг Рихтер не оставил нам ни одного изображения Везувия. Он не сумел превратить в «картину» свои «геологические» впечатления – пример такой трансформации в свое время продемонстрировал Гёте, а затем в ней упражнялись еще два поколения. Людвиг Рихтер отправился на Везувий в апреле 1825 года, в обществе Гётцлофа, но в отличие от последнего он так и не стал поклонником вулкана. Он писал: «В обществе Гётцлофа и нескольких швейцарских художников я совершил восхождение на Везувий. Мы переночевали у отшельника и насладились там роскошным закатом. В два часа утра мы отправились по потрескавшейся лаве к подножию пепельного конуса. Подошвы ботинок обуглились, стоило погрузить палку на несколько секунд в этот пепел, как она начинала дымиться. В кратере из многочисленных трещин шел дым. Но довольно быстро сернистые испарения и холод согнали нас вниз». Это называется отрезвлением. Так что у нас нет ни одной картины Везувия Людвига Рихтера – ему больше нравилось вспоминать образ «роскошного заката», которым он наслаждался на горе. А Карл Густав Карус с самого начала держался на безопасной дистанции. Три года спустя, 14 мая 1828 года, он записал в своем дневнике: «Мы переплыли на маленькой барке к скале, и там перед нами открылся коридор, заполненный водой, с естественными сводами и специально расширенный, и мы проплыли по нему. Там были очаровательные световые эффекты, красивые виды через просвет на Неаполь и Везувий, это производило необычайное впечатление». То есть и Карус тоже считает: если найти хорошую рамку, в данном случае это скалистые своды напротив вулкана, то тогда Везувий, сведенный к силуэту в «просвете», станет мотивом для романтической картины с окном.
Практики восприятия Везувия переживают удивительную эволюцию на пути от Гёте до Гётцлофа. Но бегство в эстетику, превращение настоящего в «картинку», которое открыл Гёте, остается излюбленным подходом. Соответствующим образом меняются и позиции наблюдателей в картине: от туристов-ученых, охлаждающих свои эмоции рядом с потоками лавы с помощью дискуссий о геологии, к показанным со спины романтикам у Даля и далее к равнодушным местным жителям на картинах Кателя и Гётцлофа. А автором самого остроумного художественного трюка с превращением вулкана в «эффектное явление», как выразился в 1832 году Фридрих фон Румор, был Эдуард Агрикола. В 1837 году он нарисовал «Ночное извержение Везувия», резко обозначив отношения между горой и реципиентом. Слева на переднем плане на дюне лежат два наблюдателя, растянувшись, как на диване, у них на виду вулкан изрыгает пламя, но он совсем ручной: развлечение для субботнего вечера.
Однако в этой истории с вулканом не хватает одного видного – нет, величайшего представителя романтизма XIX века, потому что Каспар Давид Фридрих никогда не бывал в Италии. Во что превратил бы этот мотив он, «первооткрыватель трагедии в пейзаже» (Давид д’Анже)? Величайший романтик XX века Энди Уорхол в 1980 году приехал в Неаполь и увидел Везувий. И Уорхол счел вулкан достойным его искусства, которое доказывало, что повторение в эпоху воспроизводимости не повреждает, а увеличивает ауру. Так Везувий стал Мерлин Монро среди вулканов. Таким образом, в плане восприятия Уорхол оказался в 1980 году там же, где был Гёте в 1780-м. А в 2013 году появилась картина берлинского художника Бернхарда Мартина [99] Бернхард Мартин (род. 1966) – немецкий художник, автор инсталляций.
, который подвел итог двухсотлетней немецкой истории восприятия Везувия и постепенного отхода от зачарованности его демонизмом, дав своей работе с Везувием лаконичное название: «Don’t worry».
Дело вкуса. О статусе Коро и Фридриха в музее Штедель, а также anno 1825, 1913, 2015
Вкус – самая неоднозначная, неуловимая и запутанная категория в истории искусств. Более того: она настолько неоднозначная, неуловимая и запутанная, что некоторые историки искусства готовы даже под пытками отрицать, что «вкус» (здесь в кавычках для необходимой дистанции, как будто само слово нужно брезгливо брать кончиками пальцев) вообще является парадигмой, заслуживающей серьезного внимания.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу