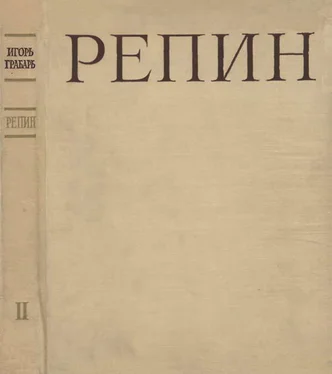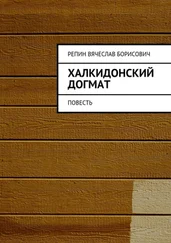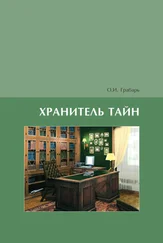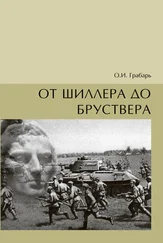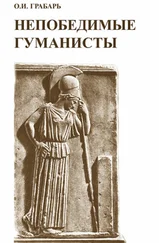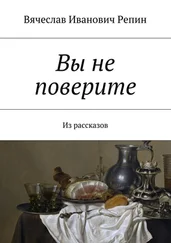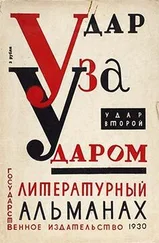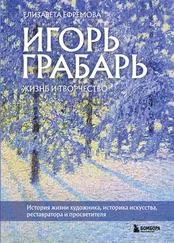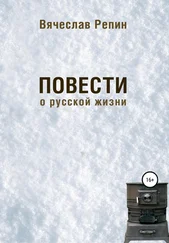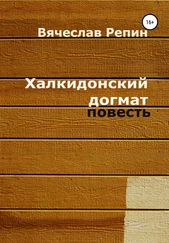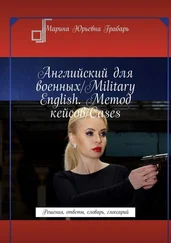М. П. Беляев, известный музыкальный деятель, страстный любитель и защитник новой русской музыки, для которой он был тем, чем Третьяков был для русской живописи, изображен не совсем обычным образом. Он стоит, повернувшись влево, почти в профиль, смотрит вдаль, что-то обдумывает, готовясь принять какое-то решение, но как будто колеблется и на мгновение остановился, пощипывая в нерешительности бородку. Художник изумительно передал здесь все существо Беляева, то нечто неуловимое, но важное и единственно характерное, что есть у человека среди его тысячи разнообразных свойств, порывов, поз, улыбок.
Но одновременно здесь не только блестящая характеристика, но превосходно решенная чисто живописная задача в направлении, родственном решению «Мусоргского», «Гаршина» и, отчасти, «Стасовой». Совсем просто, без фокусов и без намерения пощеголять мазком, темпераментом и сочностью живописи, Репин решил задачу передачи живого человека так, как он его почувствовал; и это свое восприятие он сумел передать зрителю так, что последний не думает ни о живописи, ни о рисунке, ни даже о мастерской передаче, а просто радуется и наслаждается видом живого человека, с которым, кажется, вот-вот можно вступить в беседу. Здесь художник подошел вплотную к грани, отделяющей искусство от натуры, может быть даже перешел ее, чего нет в тех портретах, но что станет вскоре чаще и чаще соблазнять Репина, приведя его к предельной объективизации природы.
В искусстве Репина середины 80-х годов ясно видна борьба двух начал, определяющих его художественные замыслы и налагающих печать на его творческую волю. То его тянет в сторону чисто живописную — ему ли, чистокровному живописцу, отказывать себе в этой радости? — то он готов закрыть глаза на все искушения техники и профессии, чтобы отдаться только сурово-объективной передаче природы. Прочь все, что не радует глаз, все, что не живопись, не цвет, не художество, в его самом драгоценном смысле! В эти минуты он пишет портреты-этюды, «почти пейзажи», какими они казались Третьякову. В эти минуты он обожает Тициана, Веласкеса, Гальса и Рембрандта, но только произведения их «последних манер», безудержно дерзкие и размашистые, близкие по духу самому Эдуарду Манэ.
Лучшим определением этой полосы его искусства служат его слова в частном письме от 15 марта 1915 года: «Суть искусства заключается в его очаровании. Все недостатки, все можно простить художнику, если его создание очаровывает».
Но, гурман от природы, он пресытился, набил оскомину, его уже тянет к антиподу — к ограничению темперамента и индивидуального момента, к объективности. Он идет в Эрмитаж, проходит мимо рембрандтовского «Блудного сына», «Титуса», «Паллады», направляясь прямо к портрету ученого с пером в руке.
На той же выставке, где он поставил «Беляева», он ставит огромного «Франца Листа», написанного широко и бравурно, но вовсе не блестяще. Скромный «Беляев» весит больше, чем добрый десяток «Листов», несмотря на то, что портрет этот в свое время приводил в неистовый восторг Стасова [34] .
Портрет Мясоедова занимает среднее положение между ними, хотя более приближается к решениям живописным. Он долго не давался художнику, начавшему его в 1884 г., когда его очень раскритиковал Третьяков [35] . В ответ на эту справедливую критику Репин пишет ему: «Мясоедова я намерен переписать весь днем, он рыжеват весь» [36] . Отсюда видно, что в 1884 г. Репин писал Мясоедова при ламповом освещении, как и Бларамберга. Переписан он был, однако, только в апреле 1886 г. при дневном свете. Он очень похож, эффектно взят, в типичной мясоедовской позе, и хорошо по живописи, хотя некоторая рыжеватость в нем еще осталась. Сам Репин был им, впрочем, недоволен, и когда Третьяков просил его продать портрет для Галереи, то он ответил ему уклончиво:
«Портрет Мясоедова я никак не предназначал для вашей галереи; он для этого недостаточно закончен; особенно корпус и рука; что делать, когда человек не захотел пожертвовать мне еще одного или двух сеансов.
Я рекомендую вам не торопиться его приобретением; можно оставить его до будущего года; может быть, удастся его улучшить (стоит он 600 руб.)» [37] .
Но Третьяков не мог упустить случая приобрести для своей портретной серии портрет инициатора передвижных выставок, и он был, конечно, тут же приобретен. Правда, пришлось, как водится, поторговаться: Третьяков предложил 500, соглашаясь ждать до 1887 г. [38]
Т. А. Мамонтова, впоследствии Рачинская. 1882. Был с собр. Паатова [позднее перешел в собр. В. А. Константинова в Ленинграде].
Читать дальше